Злая фортуна
В прозе надо быть поэтом, а не беллетристом

Романтические новеллы
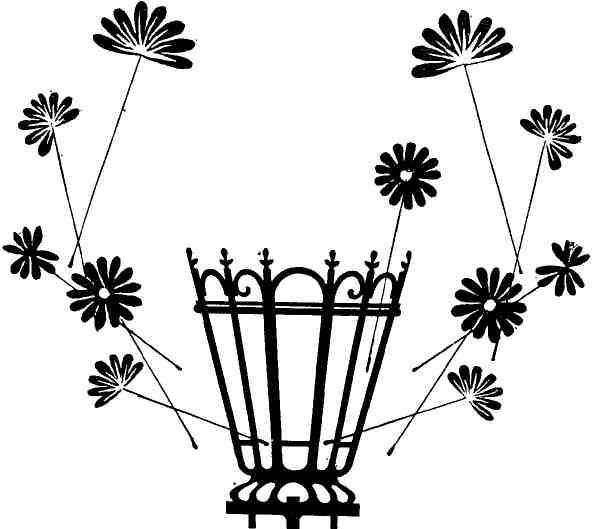
Злая фортуна
Сети любви натянуты по всему миру, однако в них не попадается еще тот, кто хочет.
Те счастливые дни, связанные с поездкой в Пятигорск, остались у него в памяти на всю жизнь. Тогда была в Пятигорске весна, солнечный свет заливал и топил в теплом припеке весь город, расположившийся вокруг Машука, пленяющий притягательными источниками и скученными старинными домами с островерхими крышами, висящими балконами и башенками в сарацинском стиле.
Стали видны со всех сторон величественные горы, акварельно улыбающиеся в легкой дымке и поражающие своей недосягаемостью и возвышенной красотой, напоминая своими очертаниями райские страны.
Евгений словно прожил жизнь, а теперь осталось скоротать остаток ее и тешить себя сладкими воспоминаниями, которые иногда казались ему горше отравы.
Когда он приехал в Пятигорск, было еще холодно, всюду лежал талый снег и не было никакой надежды увидеть весну, которую он предполагал застать здесь. Но вот холод, быстро отступил. Еще вчера дул резкий ветер, а сегодня прорвалось: солнце сразу припекло, как это бывает только на Кавказе, и стоило побыть на таком солнце несколько часов, как все начинали интересоваться, где можно так загореть лицом. В ярком небе обозначились далекие горы. Эльбрус стал виден как на ладони: двуглавый горб его засверкал расплавленным оловом, затмевая все вокруг царственной красотой.
Он нанял квартиру и стал устраиваться на лечение, в которое не верил совершенно, потому что в одном кабинете принимали сразу три врача и ото всех болезней прописывали одни и те же ванны, прозванные народными. В ванны входили, как в Иордан, татары, лишайные монголы с огромными головами и жабьей грудью, седовласые старцы с обтянутой грудной клеткой, в которой еле теплилась жизнь. Среди них он не встретил ни одного умного человека, который приехал бы сюда в надежде на исцеление, и чувствовал себя в этом окружении, как Александр на колеснице.
Если христианство проповедует спасение души, то каковы сонмы верующих, когда заходит речь о спасении тела! Толпа начинает верить в любое шарлатанство и боится признаться в этом, слепо перенимая друг у друга одни глупости, — и это называется общественным мнением. Не зная, куда девать свободное время, приезжие зеваки целый день поднимаются в гору с замшевыми сумочками в руке, на которых оттиснут пятигорский орел.
Лечение не дало Евгению ничего, кроме несчастья, которое он встретил здесь. Оно свалилось на него с неба. Теперь он сидит за столом перед зеркалом, как паяц в гримерной, и горько плачет. Теплый весенний воздух ласкает лицо, плечи, пьянит и нашептывает ему, что жизнь прекрасна и не стоит сокрушаться о той, которая недостойна его слез. На столе стоит коньяк, он один в комнате, как затворник в келье. Солнце клонится к западу, оживленно гамят воробьи, облепившие толстый ствол дерева, на котором играют отсветы от луж.
Тихо. Нежная вуаль первой зелени светлым табаком осыпала корявые ветки, почерневшие за зиму. А там, в городе, шумными толпами поднимаются по бульвару празднично разодетые девы с распущенными волосами. Он же сидит, понурив голову, и райский свет на выкрашенном подоконнике усиливает его тоску: ее чары оказались напрасными.
На улице раздаются гулкие голоса мальчишек и лай собак, далеко оглашающий предместье. На кирпичной стене солнце запечатлело прощальный поцелуй, пурпурный и тихий. А на столе все предметы блещут в свете косого луча, стекло бутылки играет зеркалами. На створке окна зажглось последнее солнечное пятно, ослепительный блеск которого вселяет в душу могильный холод, потому что от сердца оторвали кусок. Еще, что ли, выпить?
Завтра он будет думать все о том же — о ней; а сегодня проведет бессонную ночь в кошмарном бреду горькой жалости об утраченном. Он понимал всю тщетность надежд на счастье, его измученное сердце напрасно страдало, он еле превозмогал тоску, гложущую его желанием увидеть ее еще хоть один раз…
Когда он поехал в Кисловодск на грязи, он влетел в вагон отходящего поезда и приземлился на лавку, не глядя, кто напротив. И — о боги! — перед ним сидела юная прелестница, как жемчужина, вынутая из воды. Она поразила его как молнией. Была в белом чесучовом пальто и такой же шляпке-корзинке. Из-под корзинки выбивались подвитые локоны, как на старинных миниатюрах. Евгений зажмурил глаза и боялся посмотреть на нее. Но вот посмотрел. Она читала. Тут она почувствовала, что он украдкой рассматривает ее, подняла глаза от книги и ответила взглядом. Этот взгляд вошел в него, как жгучая стрела, и заставил смутиться. В один миг он был покорен ею и почувствовал себя рабом ее. Подавленный, он стал, как вор, рассматривать ее гипсовые налитые руки и могучие упитанные колени, сулящие своими округлостями неземное блаженство. Крупный рост делал ее царицей. Она вся дышала свежестью, молодым румянцем, горящим, как настурции, и светом прекрасных глаз. В эти глаза он боялся посмотреть: они были густо-синие, в них было лазурное небо, купающееся в морских волнах, и он нашел, что в вульгарной перламутровой синьке, которой они были грубо обведены, мертвенно сжигая веки, есть вызывающая прелесть, дающая право надеяться.
Что он мог сказать ей? У влюбленного язык уходит в пятки. Сердце его колотилось, во рту высохло, но говорить что-то было нужно: до Кисловодска оставалось немного, и он мог потерять ее, не обмолвившись ни единым словом. Ему надоела праведная жизнь, еще больше сверлила догадка, что она достанется негодяю…
— Что вы читаете? — вырвалось у него произвольно, и стыд краской залил ему лицо.
— Лондона.
— Постойте, я читал этого Лондона, покажите, что там, «Ячменное зерно»? Верно, читал. Тут есть прекрасное изречение Конфуция: «Если мы так мало знаем о жизни, то что мы можем знать о смерти?»
— Я пока не дошла до Конфуция, — сказала она и закрыла книгу.
Ему было уже не до Конфуция, он принялся ругать врачей, подглядев ее фельдшерский халат, белевший из-под пальто. Так не в свою пользу он навлек на себя неприязнь. Но ругать врачей было нужно:
— Наша медицина находится в руках армии бездельников и плебеев.
— Ну и ну!
— По достоверности после религии на втором месте стоит медицина.
— Кто вам это сказал?
— Врачи лгут, чтобы прокормиться.
— Что они сделали вам плохого?
— Бетховен советовал остерегаться всего сословия женщин, а я советую остерегаться всего сословия врачей!
— Тогда зачем вы сюда приехали?
— По глупости. Какая-то дура посоветовала грязи, а они ничего не дают, кроме грязи.
— Скоро выскажетесь, у вас всё?
— Самая туманная отрасль на свете — это медицина. То, в чем нам отказано понимать, в невежественном обществе принимается за табу. Невежество вообще опасная вещь…
— Вы это выучили наизусть? Долго собирали материал?
— Не смейтесь, когда-нибудь будете вспоминать мои слова.
— А вот я буду учиться на врача, назло вам!
В гневе она была еще прекраснее. Вскоре гнев ее сменился на милость, и она взялась утешать его и заставляла поверить в медицину, покровительственным тоном стала изобретать пути, как помочь ему, но так и не могла ничего придумать.
Незаметно доехали до Кисловодска. Нужно было расставаться.
— Вам в какую сторону? — питая последнюю надежду побыть с ней еще немного, спросил он.
— Мне в противоположную. Ваша грязелечебница по ту сторону, садитесь на автобус.
Евгений ничего не соображал, не слышал, что она говорила, кровь прилила к голове от сознания того, что она ускользает от него. Он успел только переспросить, на какой автобус ему садиться, и не слышал, что она ему ответила, — в голове били молоты, и он потерял ее, как монету, провалившуюся в щель. Был густой туман. Она уже гордо стояла в толпе на остановке, белела своим пальто и была далекой и чужой. Он поплелся от нее, как преданная собака, которую гонят.