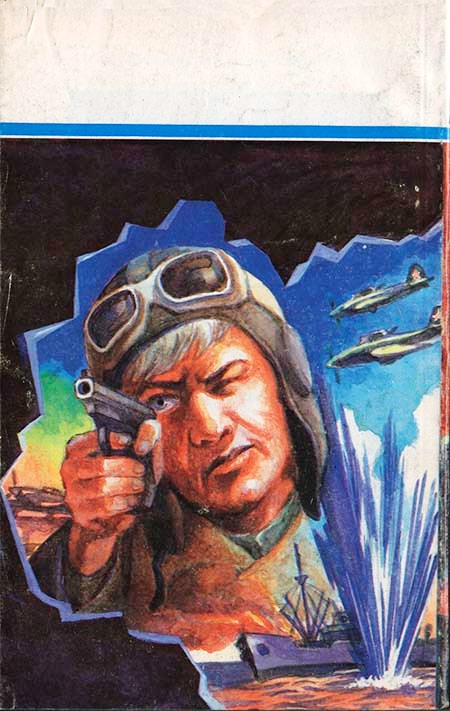— Вот сволочь, а? Вот ведь гад. Подонок.
Он, как всегда, быстро огляделся в поисках противника — инстинкт полета в нем сросся с инстинктом поиска врага, и, сообразив это, капитан рыкнул, поставил закрытый фонарь на стопор и повторил задумчиво и все так же удивленно:
— А ведь сволочь. Убийца. Убийца! — заорал он и с размаху ударил себя кулаком в щеку. Самолет мотнулся влево и ухнул на крыло. Кузьменко, не удержавшись, все-таки оглянулся. Серега, чертов Серега, замечательный мужик Серега что-то, смеясь, кричал в перемазанное, наверно, сережкиной же кровью лицо американца, а тот быстро-быстро кивал, улыбался до самых своих конопатых ушей и глядел на старшину девичьи-влюбленными глазами. Капитан сморщился, как от зубной боли, замотал башкой и хрипло сказал — хоть и неслышно в гуле мотора и свисте ледяного ветра, рвущегося из звездно-скольчатых дыр простреленного фонаря, но себя он услыхал:
— Вот теперь — точно все. Вот теперь мы победим.
… И когда пришла наконец ночь — бесконечная, до весны, до рассвета через полгода, величественно-безмолвная арктическая Ночь — самолет уже замело…
Из хрустко-снежной волнистой намети, заботливо обглаженной длинными сухими ветрами недалекого мертвого полюса планеты, возвышались, словно из могильного холма, лишь надгробно торчащие черные широкие лопасти — крест навек застывшего самолетного винта.
Первые сполохи полярного сияния несмело, осторожно-деликатно высветили мерцающим розово-голубым сиянием отполированное ветрами, треснувшее в давно забытом, затерявшемся во времени и смертях бою толстое стекло козырька кабины, за которым в недвижной глубокой тьме призрачно угадывалось спокойное и умиротворенное — наконец-то умиротворенное — лицо.
Освобожденно и легко запрокинув голову на темно-коричневый заголовник бронеспинки, человек спал. Спал долгожданным вечным сном — милосердным сном, перед которым так суетны и мелки все наши земные блистательные поражения и гибельные триумфы, наше горькое счастье и горделивые горести.
Белые волосы пилота, металлически-спутанно торчащие короткими жесткими клочьями из-под черного шлемофона, смерзлись с курчавым рыже-веселым мехом и потому новогодне сверкали инеем в призрачно плывущих волнах беззвучного света. Измученное беспредельной, тяжкой земной усталостью лицо почти разгладилось в глубоком темном покое, и, выстуженное, отмытое, пробальзамированное стерильным космическим холодом, стало чистым, нежным и матово-белым, как у невесты. И, как невеста непорочною фатою, был укутан этот человек нежно-белым мягким шелком купола смятого парашюта.
В распахнутой задней кабине самолета, по бортам уже занесенной всепрощающим снегом, спал второй летчик. Он спал, детски-беззащитно положив на край борта голову, и тихие снежинки давно не таяли возле его чему-то улыбающегося лица… Не таял снег и в его кабине, укрыв с горестной и чистой жалостью наконец-то нашедшего безопасный мир и приют человека своим пушистым невесомым покрывалом — нежнее и чище всего, что могли бы создать человеческие неверные и усталые руки.
Ночь… Вечная мудрая Ночь…
Утомленный долгой безжизненной дорогой, снег тихо кружится в скалах, посвистывает в решетках бог знает кем и для чего созданных и бог весть когда и кем позабытых конструкций; снег безошибочно отыскивает затерянную в каменном угрюмом хаосе чью-то взлетно-посадочную полосу и облегченно ложится на нее, чтоб отдохнуть до весны — до рассвета и ухода отсюда в свой новый и вечный путь…
Снег с вкрадчивым любопытством возится осторожно вокруг одиноко лежащего в скальных глубоких разломах перевернутого разбитого самолета, с тихим песчаным шорохом ссыпается в его безжизненные обломки — и потому не видно и никому отныне не знать, покоится ли в этих обломках тело пилота, гордо сверкнувший путь которого трагически завершился здесь.
Возможно, его и стоило бы искать — но кто, и как, и где, в какой бездонной подснежной глубине погрузившегося в черный зимний покой полярного мертвого мира может отыскать одинокого человека?
Да и нужно ли его искать — искать, тревожить, вновь мучить? Разве не исполнил он долг, которого на себя не брал, прожив краткую, полную жестокости, любви и исступления жизнь на полной жестокости, любви и исступления земле? Жизнь мучительную и краткую — еще более краткую, чем кратчайший ослепительный миг между рождением и смертью. Меж Рождеством — и Воскресением…
Снег скользяще шуршит в задремавшем ветре вдоль черно-ржавого борта железно вымерзшего громадного судна. Снег сровнял его борта, засыпав все безобразие разгромленной покинутой палубы, всю гнусность следов человечески-животной паники; снег заботливо сгладил проржавевшие опасные трапы, прикрыл мусор и хлам, уничтожил всю гниль и плесень и тщательно спрятал брошенное бессмысленное оружие…
Снег — тончайший и чистый — проникает ощупью всюду. Длинными, искристо мерцающими в колдовском арктическом полусвете дорожками он протянулся на чистом ясно-зеленом линолеуме ходовой рубки от ее настежь распахнутой в ночь и стужу двери к широкому уютно-деревянному штурманскому столу, на котором одиноким символом забвения покоится хрустально промерзшая без живого человеческого тепла куртка: когда-то такая уютная и надежная мягкая летная «канадка».
Значит… Значит, здесь совсем недавно все-таки был человек? Но ведь те двое, упокоенно спящих в самолете, одеты — они, засыпая, пытались укрыться от смертного холода. А разбившийся в скалах самолет своего пилота, безусловно, похоронил под собой — увы, на свете чудес действительно не бывает; бывает лишь правда, одна — на всех…
Но тогда кто же он был, тот пилот? Как он сюда попал — на чем и когда? И почему бросил здесь свою меховую одежду — жизненно необходимую в этой каменно-вымерзшей мертвящей стуже? И куда он ушел? Где его — или тех, кто с ним, — путь?
Может быть, он действительно ушел не один. Тогда шансы его спасения намного выше. Но одинок его путь или нет — храни его Господь. Храни его, храни ушедших с ним — и храни нас всех, возможно, идущих за ним. Всех — усталых, заблудших, ищущих свою дорогу.
Мы идем так давно, Господи. Мы так далеко ушли… Но мы вернемся. Вернемся — к нам. К нам таким, какими нас создавали. В каких верили — вдыхая веру. И какими мы никогда не были. Не сумели. Убоялись. Но какими должны были стать.
Должны.
Значит, станем — с обретением веры.
Станем. Сумеем. Иной дороги — нет.
И уже один из нас узнал, понял, принял — и передал нам:
«Смерть — вовсе не обязательно тот вековечный покой, о котором им когда-то рассказывали. Вот почему эта история неполна и мозаична: серия кратких вспышек, высветивших на миг — без глубины, без перспективы — грозное предзнаменование, контурный образ того, что расе суждено испытать, когда блеснет на мгновение ее грозовая слава…»