— Попробую.
— Дельно! — хлопнул он меня по плечу, распахнул двери молоканки. — Не робей, заходи хозяином.
…Вот и сейчас смотрит он на меня одобрительно, отчего легче вести гудящий сепаратор.
— Ровней води, держи на одной струне! Вот тебе срочная задача: масло к утру нужно. Люди едут в бор. Справишься или дать подмогнуть?
Оттого, что председатель со мной, как со взрослым, разговаривает, что завтра люди станут под тяжелые сосны, — обуяла радость доверия ко мне.
— Справлюсь.
— Не подведи. Новую школу задумали строить.
Мне хотелось скорей доставить в склад увесистый куб масла в пергаментной рубашке, чтоб кладовщик ахнул, сказавши:
— Славно сработано! Вот и диви, что молодой. А он заткнет старого за опояску!
Кручу маслобойку уже много времени. Устали руки, понывает в пояснице, а масло не сбивается. Кувыркается бочка, глухо плюхает в ее утробе, екает, как селезенка у лошади. А если неудача? Взяться и не сделать — какой позор! От него не спрячешься: здесь все на виду. Кручу и обливаюсь водой.
Вымотала меня бочка — обвяли руки, горят ладони. Обессиленный и растерянный, гляжу на смотровое окошечко маслобойки, а оно равнодушным бельмом смотрит на мое горе. Тяжело и противно чувствовать свое бессилье! Закрываю молоканку, опускаюсь в угол. Отчаяние выдавливает на глазах слезы. Плачу в уголке тихонько: не хочу показывать себя мокрым и бессильным. Выступившие из углов фляги сочувственно молчат, сухопарый сепаратор качает чалмой. Разыгравшееся воображение бьет тревогу, рисует страшное завтрашнее утро.
Вот уже запрягли телеги, собрался народ, но никто не едет. Уже спрашивают:
— Чего стоять-то. Какая заминка? Отчаливай!
— А масло-то где?
— Бабы, что это у молоканки народу нагрудило?
— Подумай только, что делается! Мужиков в бор отправлять надо, а новый-то молокан масла не приготовил.
— Что с парнишки спросишь.
— Какой тебе парнишка — по вечеркам уж ходит!
— Ой, срам!
Как выведенный на позорище, буду стоять у молоканки, не смея оправдываться и глядеть на людей. Тут обязательно будет Никандра. Он весь пропитан ядом, а где пройдет — останутся на земле плешины. Пастух обязательно прыснет:
— Нет, тут добра не жди! От этого сокола вороной относит.
Председатель не будет ругать. Он посмотрит, и это сомнет меня, как навалившийся в раскате тяжелый воз сена.
— Маху дал я, значит.
— Вот это уже конфуз и срамота, — сказавши, нахмурится отец и потрет переносицу.
Над головами людей вспорхнет голос матери:
— Мужики, бабы, не судите строго… Сил у него не хватило. Сплоховал парень… Он может!
Если бы в маслобойку ударил гром, чтоб разнесло мое мучение по лоточкам!.. Но она прочно стоит на опорах, красиво опоясана обручами и протягивает мне в знак примирения журавлиную шею крюка. Гром в бочку не бьет. Придется, видно, кувыркать кургузую толстуху: мое спасение от позора в ее хлюпающем нутре.
Много звезд стряхнула ночь за темный край земли, когда я все-таки добился победы. От усталости не хочется двигаться. В открытую дверь через порог натекает темнота, густеет по углам, и фляги, погруженные в нее по пояс, бродят, как ребятишки по мелководью. Лежу на полу, смотрю на месяц над крышей амбара. Ночь пошла на другую половину. Завтрашнее утро у меня будет самое расчудесное!
Уже отпиликала гармошка, отпустив с «пятачка» молодежь по домам. Чей-то голос дремотно допевает:
Умолк голос. Полный месяц удивился наступившей тишине, принялся заглядывать в окна домов, подсвечивать стволы берез. Коммуна спала и не знала, что усталый победитель идет досыпать ночь. По лесной дорожке месяц разбросал мне под ноги монисто ярких бликов.
Про музыку
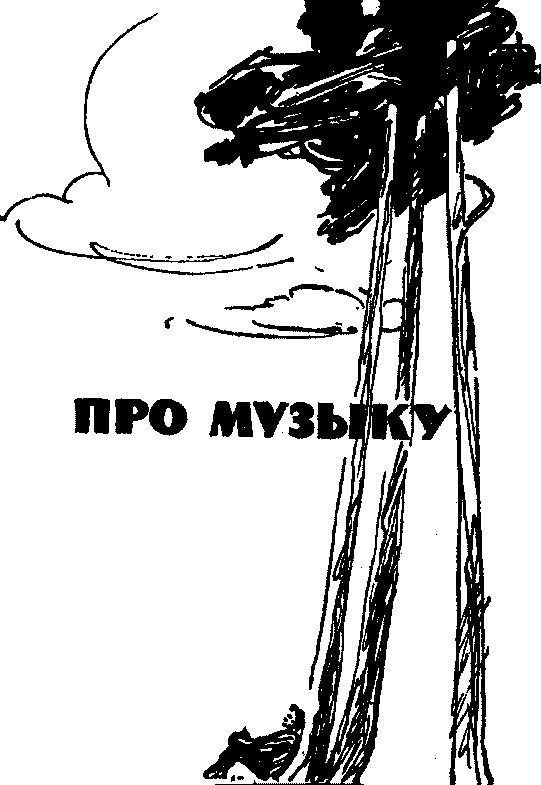
— Не суетился бы ты, отец, раз не можешь, — говорит мать. — Полежи — отойдет. Взяток откачал. Какое теперь заделье на пасеке?
Отец сидит на кровати, натаскивает рубаху на худое тело. Лопатки остро прорезываются зачатками крыльев.
— На волю мне надо… В избе я долго не оклемаюсь, да и голове тут неспокойно.
Стоит тепло. Все заполнил недвижный воздух. Небо приподнялось над полями, раздвинуло к посветлевшим увалам грудки облаков, ласкает притихший лес, удивляется обилию земли, яркому цвету озимых, опоясавших колки, слушает трактор. Он шумит, проводя строчки по жнивью, раздвигая перелески. Всюду покой, свет и раздумье.
Отец возвращается умиротворенный, посветлевший, усталый. Слабое тело примяла болезнь, разбросала по кровати. За сеткой корявинок прячется нездоровый румянец. Дрожащие ресницы опахивают глаза, тронутые небом.
— Уведрилась погода. Бабье лето нынче славное, — раздумывает отец. — Какое-то кроткое… и название ему какое! Целыми днями сияние, тишина… Уже пошла осенняя прожелть по березам. Лес, похоже, думает, а пчела играет…
— Ты не турусишь[45] ли там? — спрашивает мать из кухни. — С кем говоришь?
— Думаю это я.
— Правду сказывают: здоровый в дело впрягается, а хворый думами мается. Про что думаешь?
— Разные разности наплывают… Вот эта природа — силища! Не может еще человек до конца совладать с ней. Где человек осилит, а где она такую затрещину со звоном влепит — только ай да люли! Когда народит всего вдосталь, когда засушит или зальет. А то напустит хвори — мор пойдет. Не доведен ей порядок. Только день с ночью при своих местах стоят. Не от человека мир заложен, не руководительно заведено! Прохвораешь хорошие годы, а там, гляди, и помирать надо будет.
— Срок придет — помрем, а допрежь-то эти речи к чему у тебя?
— Срок… Тут тоже надо разобрать, кто срок назначает. Человек себе смертного часа не определит, а природа тут бесчинствует. Нашлет микроба, какого в щепотке не удержишь, — и начнет точить тело. Наведет он свой срок — развалит человека. Тоже старость… Никчемное дело! Придет — руки, ноги сведет, разукрасит морщинами, вышьет сединами, иссугорбит-согнет. Как на изгальство отдан человек! Голова умом ядреет, а тело вянет, хиреет.
— Не выходит вечной жизни человеку, — замечает мать. Она увлекается разговором, садится к отцу на кровать, наблюдает, как он живеет, протестует, доказывает.
— Бессменно одни звезды живут. Жизнь, она как-то заманивает, потому и охота дольше пробыть на земле. Увидеть бы, куда придет народ, чем удивит. Мы изготовились на широкий шаг, теперь только идти, а тут болезнь или старость подрубит. С человеком таким манером расправляться нельзя: он не козявка!
— В школе говорили про какого-то ученого, — напоминает мать. — Он будто подмолаживает людей.
— Это про Воронова. Пытает он, где слабинка у природы, с какого конца ее осилить. Дожить бы, увидеть бы!..
— Трава родит семя и засыхает, — вздыхает мать.
— Повидать надо, куда прибьются наши дети, поостеречь, чтоб не намусорили в жизни.
Замолчали. Отец закинул руки за голову, мать смотрит перед собой. Так бывает, когда иссякнет беседа, и каждый слушает слабое эхо своих мыслей.
— Что даве с Адрияном стоял? — спрашивает мать.
— А-а-а, — не сразу отвечает отец. — Советует послать нашего старшего в город учить на музыканта.
— На музыканта?! — вскидывает мать глаза, будто я неожиданно и тяжело заболел.
— Что дивоваться?
— Ненадежное для нас дело.
— Кусок-то и музыкой добывают.
— Все как-то возле земли лучше: свой кусок, как родной сынок. Где с водой, где со слезой, а сыт будешь. Сема Пимик всю жизнь протиликал на гармошке по чужим избам, прожил на потеху другим без угла, без места. Схоронили в чужой деревне. Исчаднул, как дым над свечкой, и места, где жил, не приметишь.
45
Бредишь.