Отплясали свое рекрута в родной поскотине. Растворились ее широкие ворота, — в путь, далекий путь, за край неба, на войну.
Расходятся люди. Унесут они свое горе по избам, обживется оно на пороге, — попробуй-ка пошагай через него! Меня уносят на руках в деревню. Через плечо матери я вижу в небе солнце да оставшихся у ворот стариков. Они стоят, как памятники.
Без отца
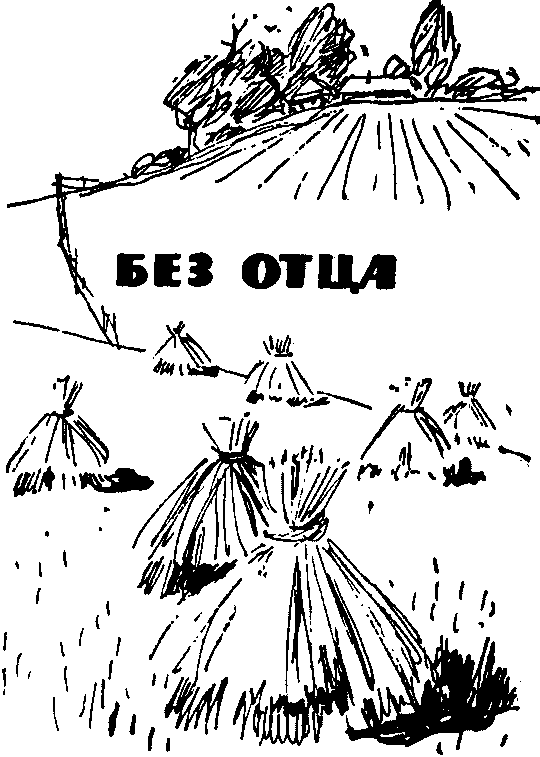
Мне уже много лет. Трудно запомнить и сказать, когда об этом спрашивают взрослые.
Каждый раз, когда у нас бывает вечерами дед Митрий, он напоминает, какой я стал большой, что пора парня в седло да на полосу с бороной. Когда вернется отец, то никак не признает, и уж не миновать дела, как подойти к отцу и сказать:
— Тятя, это я без тебя вырос.
Чтоб показать потом отцу, как я вырос, дед ставит меня на порог, прислоняет к холодной двери и кухонным ножом над моей макушкой ставит метку на ребре косяка. Пристукивая по полу костылем, отходит к окну, велит стоять прямо, смотрит, надувая усы. А я, исполненный какой-то большой важности момента, вытягиваюсь по косяку струной, слышу, как затылок, поскрипывая волосами, ползет вверх.
Мать и бабушка, оставив свои дела, сидят на лавке, одобрительно ахают, шлепают руками по коленям.
Всех важнее сейчас для меня дед Митрий. Стараюсь выполнить его задание, не дышу. Краем глаза, скошенным в его сторону, примечаю, как подрагивает у деда в улыбке борода да расползаются усы. Он доволен, а я все еще расту. Уж совсем немного, сколько тут… Завтра дорасту. Дед стучит костылем по косяку, восхищенно говорит:
— Ну, совсем малехонько осталось! Теперь так: утром ешь оладьи, блины со сметаной, днем — кашу с маслом, а вечером — сухарницу с квасом. Ешь туже, чтоб пуп был навылупку!
Бабушка сокрушается, что не припасли на зиму просо, что не из чего надрать каши, нечем кормить работника.
— Пошена дам, в сусеке наметется. Приходи завтра, Степка, с чашкой — сыпну.
Дед Митрий садится у двери, кладет на пол костыль, и взрослые начинают говорить про непонятные дела. Мать дает мне железную чашку, велит лезть на печку и угостить деда Митрия семечками. Они хранятся в мешке возле чувала. Черпаю семечки пригоршнями и, высоко подняв руки, пропускаю сквозь пальцы. Семечки падают черными птичками, чашка торопливо поет. Поднимается струйка печной пыли, в носу прищекотывает, вкусно пахнет.
Хорошо зимними вечерами посидеть на печке за ситцевой занавеской на разостланной старой лопатине и пососать сухие комочки глины. Вкуснота!
Падают семечки, сухо шуршат, переваливаются, как стылые мухи на подоконнике, показывая пестрые бока.
Дед Митрий приподнимает занавеску, топорщит бороду, двигает бровями, а глаза смеются.
— Не мешкай, мужик, а то домой уйду.
Деда отпускать жалко. Велено его угостить, а это дело надо хорошо исполнить. В дедову шапку насыпаю семечек, ставлю чашку на стол.
Мать бойко, с треском лущит семечки зубами, скорлупа валится ей на колени, смешно ковыляя по кофточке. Бабушка давит их скалкой на лавке, сметает шелуху на пол. Дед примостился на западенке, степенно и точно, совсем без усилий, давит звонкие костяшки толстыми ногтями большого и указательного пальцев, похожими на сильный клюв белого попугая из бабушкиного ящика.
Бабушка не часто открывает сундук: не любит, чтоб туда заглядывали. Сколько же там всякой всячины! Когда открывают сундук ключом, то слышится щелчок с музыкой.
Если, одолеваемый любопытством, я оказываюсь возле бабушки, то она больно-пребольно щелкает меня в лоб, приговаривая:
— Вытрескал лупанцы[1], чадо христово!
Тогда я тихонько забираюсь на полати, — сверху все видно!
Тренькает певуче замок, открывается сундук… Вот где красота! Вся крышка заклеена картинками, тут целое собрание пестрых красок. Много красивых барышень с цветами, толстые люди в картузах, а на плечах — тарелочки с кисточками. В центре — большой белый попугай, которого бабушка зовет «андельской» птицей.
Трещат семечки, слабо светит лампа, подвешенная к потолку на железном крючке. За тусклым пузырем застыл язычок пламени, иногда подрагивая оранжевым жальцем. Течет неторопливая беседа. Слова выплевываются с шелухой. Темный пол усеян белыми скорлупками, они причудливо роятся звездами у приземистых пимов деда Митрия.
Одолевает сон, я забираюсь на полати. Дед, задрав голову, провожает меня глазами.
— Мотри, паря, не хлубыснись[2], мила душа, а то еще торкнешься[3].
Хорошо на полатях утонуть головой в подушке! Под ухом слабо шуршит перо, голова отваливается, нет ни рук, ни ног, — совсем пушинка, — и понесет тебя детский сон под своим чудным крылом…
Смутно слышу, как подо мной что-то грохает: это дед собирается домой, стуча костылем в полатницу, спрашивает:
— Степка, за кашей-то придешь ли?
Как ответить деду, когда язык спит?
— Уходился парень. Ну, спи, сверчок-певунок.
А я разве сплю? Я живу во сне на полатях.
В окне солнце, все куда-то ушли, Один дед Митрий стоит в избе и подает мне на брус полную шапку каши. Ее много в избе, и дед сам уже стоит в пимах, до колен в каше. Деду хорошо, как и мне! Его нос горбится, тянется к бороде, на лысой голове вздрагивает хохолок волос. Это уже совсем не дед, а попугай из бабушкиного ящика. Он выпорхнул оттуда, рад светлому дню и солнцу, смотрит на меня черной смородинкой глаза.
Остепенились бураны. Долго они жили в нашей печной трубе. Иногда их там собиралось много, было им тесно, отчего в печную вьюшку выскакивали снежинки и, как холодные иголочки, втыкались в щеку, когда я приклонял ухо, чтоб послушать попевку вьюги.
За окном стало светлее, солнышко чаще и охотнее смотрело на деревню, текучие волны сугробов приосели.
До чего же хотелось выбежать на сияющую улицу, взобраться на высокий сугроб, упасть там вверх лицом и лежать выше трубы, а потом стремительно скатиться по крутому боку сумета, обязательно с перевертом, чтоб не сразу понять, в какой стороне твоя изба.
Я просился на улицу, но мать сказала, что нет обуток, что надо просить у дяди Василия, да и дратву поиздержали.
— У-у, как долго ждать… Уж скоро вся зима растает.
Так манит улица, что иногда выскакиваю за двери босой, в одной рубахе, пританцовываю на холодном крыльце, сую голую ногу в снег и затем влетаю в избу, где меня водворяют на печку ощутительным шлепком.
Хоть и долго ждать радость, но она все равно придет! Она уже в дверях. Приносит ее высокий, благообразный и слепой дед Василий. Он живет с нами в одной ограде, как и дед Митрий. У порога, под полатями, стоит рослый бородатый старик, с белыми, налитыми теплым молоком глазами. В его руке моя радость: новые обутки с кошмовыми чулками и подвязками, свитыми из конопли. Я пристыл к полу… Хочется протянуть руку, потрогать обутки, но мать, улыбаясь глазами, ничего не говорит.
Дед крестится и кланяется на угол печки. Мне хочется сказать ему что-нибудь хорошее, помочь. Когда он и второй поклон отпускает в ту же сторону, я не выдерживаю:
— Дедушка, бог не там.
Он поворачивает голову в мою сторону.
— Бог, он везде. В какой стороне его нет?..
— У нас он вон где, — показываю я в передний угол на икону.
Бабушка грозит мне пальцем, а мать велит подойти. Зачарованный обутками, я готов их схватить, но бабушка уже около меня. Она давит мне на плечи, а ее слова стучат мне в макушку:
— Стань на колени, поклонись в пол дедушке, скажи — благодарствую.
Стою на коленях, киваю головой, но бабушке это не нравится.
— Ниже, в ноги!
Она прижимает мою голову к полу и не отпускает, пока не произношу:
— Дедушка Василий, благодарствую.