С крыльца Дома культуры его окликнули:
— Алексей Николаевич! — К нему бежала Наташа, директор Дома культуры. — Алексей Николаевич! Ой, как здорово, что вы приехали, у вас ведь выпускной нынче…
Алексей залюбовался девушкой. Глаза лучились радостью, из-под шапочки выбилась прядь волос, и он вдруг испугался: неужели обрезала свою единственную на все училище косу?! Он даже поднял руку, чтобы потрогать Наташин затылок, но одумался. Только спросил:
— Ты что, без косы?
— С косой… — растерялась Наташа, сорвала шапочку, вперед из-под пальто перебросила косу. Смутилась. — Мы вас ждать будем! — И побежала обратно.
Захлопотала мать, засуетилась. Всплакнула между шестком и столом, уронила хлебницу, поругала себя за «капорукость». Алексей, глядя на мать, с горечью подумал, что за зиму она совсем посунулась в старость, и он, как маленькую, погладил мать по голове, назвав неугомонной хлопотуньей, а она разволновалась и отчего-то начала просить прощения, смешалась в объяснениях, и от этого еще больше отозвалась в сердце Алексея жалость…
Вдруг, словно отмахнувшись от всего рукой, мать выпалила:
— Да ведь ты не знаешь еще! Маша-то Шутова вернулась! — и уперлась взглядом в сына. — Вернулась!
— Когда?
— Да уж после страды, однако. Опосля, опосля! Расколотила избу. Помирать, говорит, уж домой вот приехала. Все так же высока да худа. Все уж к ней перебегали, вдругорядь Егорушку ее оплакали. Пособили, кто помоложе, избу выбелить. Как тут все и было, словно никуда не езживала. А про тебя, Алешенька, все чисто знат! Откуль? А знаю, говорит, и все! Я, мол, смальства евоново знала, что он при балалайке будет!
— А на своей-то играла?
Мать сердито посмотрела на него:
— Да ты што, бог с тобою, сынок! Кака уж теперя игра? Я вон за собой погонюсь: токо встану с койки, а уж забыла, спала али нет, так снова и паду спать, особенно к перемене погоды. Кака уж нам, сынок, игра, уж век иссыпам…
В колхозном парке собралась вся деревня. Торговали блинами, пирогами. Наташа вела «ручеек» из молодежи.
— Ну как, Алексей Николаевич, нравится? — крикнула она.
— Молодец, Наташа! — похвалил он.
Все вокруг танцевало, пело, кружилось. И везде он видел Наташу. Потом одну ее только и видел, за ней одной наблюдал.
Председатель Сурмин, дымя беломориной, подошел, показал большой палец, мол, знай наших! Гордо оглядел гомонящий парк и, будто невзначай, напомнил:
— Обещал ведь с оркестром приехать! Если надо — мы от колхоза бумагу твоему начальству.
Да, с таким председателем и трактор запляшет, подумалось Алексею, и он, засмеявшись, твердо обещал приехать без всякой бумаги.
И тут Алексей услышал, нет, он даже еще не услышал, скорей, почувствовал, как чьи-то руки тихо коснулись балалаечной струны. Он развернулся и пошел на звук. Вдруг, словно под ноги ему высыпали ослепляющий столб искр, рванулась к нему мощная балалаечная россыпь и:
— Шутиха-Машутиха! — все тот же уверенный и громкий, словно со сцены, голос.
Алексей рванулся вперед, сквозь толпу.
На санях, заложив нога за ногу, сидела тетя Маша Шутова.
Алексей просиял лицом, весь подался навстречу ее взгляду и даже прикрыл глаза, словно не верил, что это тетя Маша. Она тоже улыбнулась, увидев его, и, не отнимая рук от струн, весело зачастила:
Она пела свои нескладушки, озорно сверкая глазами. Вокруг хохотали, удивлялись старухе.
Алексей смотрел и смотрел на ее руки, не потерявшие живости. Никогда, никогда за все годы не слышал он более совершенной игры, более полного извлечения звуков из инструмента. Глядя на эти руки, он снова чувствовал себя мальчишкой, так и не научившимся играть.
Когда она, закончив играть, встала, чтобы уйти, как делала раньше, Алексей бросился к ней, схватил настывшую на морозе руку, поднес к губам, хотел поцеловать.
— Что ты, что ты! — выдернула ее тетя Маша. — Ты теперь лучше меня играешь! Лучше! — строго сказала она, предваряя все его слова. — Только надо еще жальчее, особенно на одной струне. Так, чтоб слышно было, как на ней слеза выступает. Понял, Алешенька? А что в радиве дышишь, когда играешь, тоже хорошо, слышно, что живой человек над балалайкой склонился. — И пошла.
— Тетя Маша! — Он догнал ее. — Я провожу…
— Наташу вон проводи лучше. Это она меня к балалайке вернула. Тоже к ней способная, но уж баяном порченная. А вот сердце у нее — живенькое. А ко мне завтра приходи. Подарю тебе балалайку. Старинная. Теперь таких не ладят.
Утром Алексей отправился к Шутовой. Ночь как-то тревожно спал, и теперь тревога не отпускала. Насторожился, не увидев тетю Машу в окне. Никто не откликнулся и на его стук в дверь. Он толкнул ее и вошел.
Тихо.
— Тетя Маша, — позвал Алексей.
Никто не отозвался.
Алексей прошел в горницу и замер.
На кровати, сложив на груди руки, лежала Шутова.
— Тетя Маша, — шепотом окликнул он и подошел, боясь поверить.
Он коснулся ее остывшей руки и удивился: как ледышка, словно весь вчерашний мороз вошел в нее.
Ему не было страшно. Не верилось, что ушла, навсегда ушла Шутиха-Машутиха. В груди, на одной ноте, пронзительно и тонко, будто на балалаечной струне, звенел заполнявший все звук. Так бывает, когда после громкого и звучного аккорда в хорошем инструменте долго живет голос музыки. Звук заполнил уши, отнял силу движения, силу мысли.
— Тетя Маша… Тетя Маша… — Он не звал — он прощался, не веря, что навсегда.
Истаивало нечто большее, чем обычные слова, обычное понимание невозврата и правда смерти.
Он снял с кроватной шишечки висевшую балалайку, темную, знакомую до всех подробностей ее долгой жизни, и вышел.
…Прошли выпускные экзамены. Наступили каникулы.
В деревню приехал оркестр.
Когда Алексей увидел полный зал Дома культуры, он задумался, словно проверяя что-то в себе, а потом махнул Наташе:
— Занавес!
В красной рубахе, со старой балалайкой Алексей вышел на сцену и выдохнул:
— Шутиха-Машутиха! — Он топнул ногой в сапоге, ударил по струнам, и в зал под аплодисменты понеслось:
ПОВЕСТИ
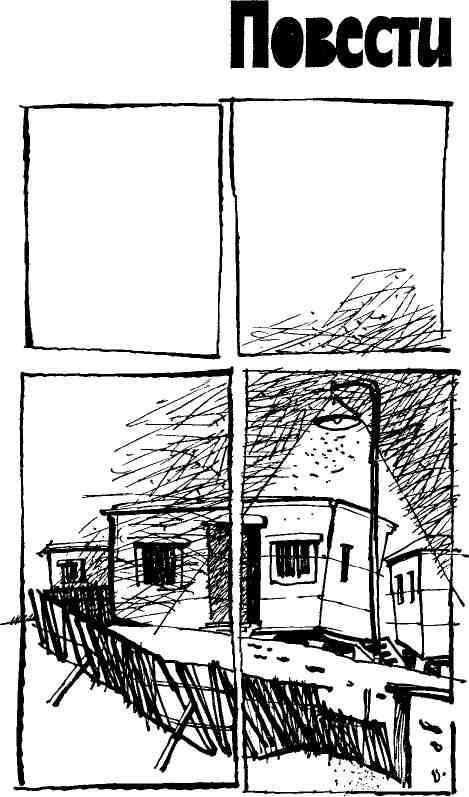

ПЕРЕСЕЛЕНКА
В стылой ночи железный вагончик походил на всхохленного воробушка, поджавшего ноги и припавшего в распадке между сугробами. И если бы не свет во всех его окнах, можно бы подумать, что это просто блок, огромная коробка, неловко застрявшая тут во время метели. Везли-везли, забуксовали, да и бросили. Может, тянули во-он к тому вагон-городку, посреди которого на столбе мотается под колпаком лампочка. А может, вагон списали и притащили поближе к дороге — под склад.
Ни сеней, ни порога. Шагнул и — на улице.
Елена отошла от окна. Так, в никуда глядела. Уперся вагон всеми окнами в высокие снега, до темноты еще можно разглядеть крыши высотных домов и краны, это все равно что смотреть в спину неподвижно стоящего человека.
Где-то там, почти в центре Сургута, жили ее знакомые по Омску. И место это называлось Таратыновкой, где селились как бог на душу положит, кто в вагончике, кто в балке. Рассказывали, когда приезжали в Омск, про эту свою Таратыновку. Мол, в Сургуте — Таратыновка, а в Нижневартовске — Шимонаевка. При каком начальнике началось такое бесхозное заселение, по имени того и времянка. Правда, многие в новые дома переселились, а на их балки охотники все равно нашлись. За интерес к заработкам сами махнули рукой на все остальное. Будет жилье — куда ему деться? Не под открытым небом — и ладно. Вот и она тоже под крышей. Только где-то прилепочкой, а не посередке Сургута. Главное — переехала. А там поживет — увидит.