Нет, он не испытывал ненависти, — всего лишь что-то вроде обиды. Но ложь Нелли (в конце концов, можно принять любую ложь, даже самую бессовестную, и простить ее, и простить злосчастных обманщиков, — не в этом дело!) поразила в нем что-то, не относящееся ни к уму, ни к чувствам, словно надломила стебель, которому уже никогда не суждено распрямиться, зажить.
О, моя Нелли, мой ангел, парящий над землей, — Реджинальд больше не сердится на тебя за ложь. И Фонтранж был прав, и ты была права, когда решилась, когда дала согласие стать госпожою де Фонтранж. Но твоя жалкая, прельстительная, милая ложь нанесла смертельный удар тому, что не было ни сердцем, ни мозгом. Она сокрушила не чувство, а нечто более потаенное. И тщетно было бы призывать специалистов по внутренним органам; никто из них не смог бы определить причину этой неизлечимой болезни. Вот она — черная сторона лжи: ее исправили, ее приукрасили, обрядили в белые одежды правды, но она успела проникнуть в Реджинальда и навсегда отравить его едкой горечью измены; и пусть она теперь виделась ему чистым, сияющим актом любви и доброты, — все равно тот неведомый орган продолжал болеть, причиняя тошнотворную муку.
Глава пятнадцатая
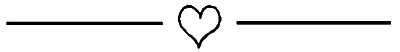
— Он уже не придет, — сказала Нелли.
— Вы кого-то ждете? — спросила ее мать у Фонтранжа.
— И ждем и не ждем, — ответила Нелли. — Я лично не жду.
— А я жду.
— Могу я наконец узнать, о ком идет речь? — воскликнула мать.
— Нет. Этого никто не может знать. Никто даже не догадывается, что мы здесь сидим и ждем его. Никому и в голову не приходит, что мы оба не просто ждем его, а предполагаем, что он — может быть — появится. Ты бы умерла на месте, если бы узнала, о ком я говорю.
— Ну что еще за глупости! Сейчас же скажи мне, в чем дело!
— О нет, ты ничем не рискуешь. Он уже не придет.
— Во всяком случае, это, как я поняла, мужчина. Надеюсь, из порядочных?
— Как вы считаете, Фонтранж, он из порядочных?
— В высшей степени. Я не знаю более достойного среди мужчин.
— Да надень же, наконец, шляпу, Нелли! Вы уже запаздываете. Ох, до чего ж ты мне не нравишься в черном!
Фонтранж вышел из комнаты — по его словам, чтобы поговорить с Эглантиной, а на самом деле взглянуть, не пришел ли Реджинальд.
— Почему ты не оделась в белое?
— Потому что у меня был любовник.
— Почему ты так разговариваешь с матерью?
— Потому что моя мать меня не любит, а я ее ненавижу.
— Почему тебе сегодня обязательно нужно болтать всякую чепуху?
— Потому что сегодня я наконец хочу посмотреть, что такое правда. Хочу ощутить во рту ее вкус. Хочу ощутить в руке ее тяжесть. Хочу, чтобы она меня коснулась.
— Бедное мое дитя!
— Отойди, не трогай меня!
Вернулся Фонтранж.
— Пора ехать, Нелли. Вы сядете с Эглантиной.
Нелли улыбнулась. Боже мой, до чего жестокая и странная, ужасная и комичная штука — жизнь. Она безжалостна к тем, кто пытается дать ей шанс проявить милосердие и всепонимание. Вот уже шесть дней, как Фонтранж и Нелли изощрялись во всех, какие только возможны, мужских или детских хитростях, позволивших бы Реджинальду вернуться — в любой час, в любую минуту, в любую секунду. Каждая их фраза звучала как прощальная и могла достойно и дружески завершить этот странный роман, да и вообще всю драму. Ночами Нелли то и дело просыпалась, и лампочка на маленьком столике никогда не гасилась, и дверь в спальню не запиралась, чтобы Реджинальд мог войти и отыскать в полутьме ее постель. Фонтранж, напротив, каждый вечер перед сном приказывал будить себя попозже, держать наготове собранные чемоданы и путеводители; словом, принимал все необходимые меры на случай, если Нелли вдруг позвонит и скажет, что свадьбы не будет, что Реджинальд вернулся к ней. Они не планировали никакого свадебного путешествия. Они обедали и ужинали только в тех местах, где Реджинальд мог легко найти их; садились так, чтобы он сразу увидел обоих, но не в центре зала, чтобы он не побоялся подойти. Никогда еще жизни не предоставлялось столько удобных случаев забыть о своей фатальной неумолимости и проявить хоть капельку фантазии и снисхождения.
Фонтранж вспоминал, как ребенком, в семилетнем возрасте, он пережил подобную неделю: егеря рассказали ему, что в лесу бродит белая красавица-лань, и он внутренне подготовился к ее появлению, да и вокруг себя, в доме, все устроил так, чтобы она могла прийти и подружиться с ним. И тогда он тоже — совсем как теперь Нелли — не запирал двери на ключ и даже оставлял их приотворенными: нельзя ведь требовать от лани того, на что способен Реджинальд, — повернуть дверную ручку; и ворота замка он не захлопывал, а утром первым делом бежал проверить, нет ли там следов; и еще он набросал на коврике рядом с кроватью свежей травы, — пускай поест, если придет и застанет его спящим. Ибо нельзя ведь требовать от лани того, что естественно для любовника, который, придя ночью, может простоять до утра возле постели возлюбленной, нежно взирая на нее в ожидании, когда ее первый взгляд коснется его лица. Нет, не взглядом, а рукою касался утром пола маленький Фонтранж, ища пальцами нежную шерстку и не находя ничего, кроме ворса ковра. Лань все не приходила. Она так никогда и не пришла. Он жил среди кошек и собак, а однажды по лестнице в дом забрела лошадь. Но посланница лесов и лугов, собак и прочей живности, населявшей мир Фонтранжа, не явилась к нему ни в открытую, ни сквозь запертую дверь.
Одна только Нелли пришла к нему этой дорогой, назначенной для четвероногой самочки с изящными копытцами, нежной мордочкой и непорочным чревом. Отныне она будет спать подле него, такая же чистая. Ибо Реджинальд тоже никогда не придет. Все люди, все звери, для которых мы проделываем бреши и наводим мосты в этой краткосрочной, ограниченной жизни, давая им возможность бежать на свободу, сбиваются в кучу посреди просторного грааля, обнесенного воздухом, а не высоким частоколом, и отказываются выходить, упрямо считая себя пленниками.
— Пора! — сказал Фонтранж.
А сам думал: мне следовало самому отправиться в лес, отыскать ту лань, поймать ее сетью или лассо, спутать ноги веревкой, стянуть рот ремнем — словом, сделать все, что должна была бы на этой неделе сделать Нелли с Реджинальдом…
И вот теперь они сидят бок о бок, с молитвенниками в руках, на скамье в Церкви Святого Роха. Все уловки, все ловушки, расставленные ими по пути из дома в мэрию, от первого до последнего, самого долгого мгновения между вопросами мэра, согласен ли Фонтранж взять в жены эту женщину и согласна ли она взять в мужья этого мужчину, оказались тщетными. Орган гудел вовсю, и они могли разговаривать, не опасаясь быть услышанными. Фонтранж говорил, глядя прямо перед собой, на алтарь, но обращаясь к склонившей голову Нелли.
— Нет, — отвечала она.
— Клянусь, я не обижусь на вас, дорогая. Встаньте и уходите. Идите к нему.
— Я ваша жена. Я люблю вас.
— Перед Богом вы мне еще не жена. Вы жена мне только перед гражданскими властями, которые вернут вам свободу, как только вы пожелаете. И вы меня не любите. Вы питаете ко мне теплое чувство, которое я буду ощущать даже вдали от вас, хотя мы сможем и видеться, даже часто видеться. Вам хорошо известно, что я не могу жить без вас. Вы все для меня — моя радость, моя гордость, моя молодость. Так уходите же! Бросьте меня!
— Нет, — повторила Нелли, отрицательно качая головой. Но это движение невесты говорило яснее слов. И яснее улыбки. Ибо ее губы тронула улыбка.
— Нет, — повторила Нелли.
— Вы не хотите взять в мужья Реджинальда?
— Нет, — ответила она.
И это звучало, как другая месса, опровергающая ту, что отправлял священник.
— Но ведь вы любите Реджинальда, Нелли. И он вас любит. Он молод. С ним вас ждет долгая жизнь, полная счастья. Еще нынче утром вы соглашались с этим.
— Теперь я ваша жена.
— Нет еще. Произошла ошибка. Я был неправ, захотев утешить и спасти вас такой ценой. Счастье в этом низменном мире попадается на самую примитивную наживку, как лосось на червяка. Мы слишком легкомысленно отнеслись к нему. Идите же к Реджинальду. Я буду вам не мужем, а отцом.