Нелли вернулась домой с радостным облегчением. Но передышка оказалась недолгой; едва она легла в постель, как вновь начались душевные терзания. Теперь ей казалось, что она видела лишь призрак Реджинальда, — ведь он прошел в двух метрах от нее. А на расстоянии двух метров прошлое нетрудно принять за настоящее, болезнь — за здоровье. Может быть, рядом с каждым темным волосом у него появился седой; может быть, лицо, показавшееся ей гладким, уже иссечено множеством мелких морщин. Реджинальда следовало разглядывать с пятидесяти сантиметров или еще ближе, подойдя вплотную, дотронувшись, погладив по щеке, коснувшись губами. О, почему, почему можно узнать любовника, который вас избегает, только тем же способом, каким узнают любящего, — заключив его в объятия?! Среди ночи Нелли вскочила в ужасе: ей приснилось, будто Реджинальд превратился в старика, подобного Фонтранжу. Да и Фонтранж тоже старел на глазах. Следовало поторопиться с Фонтранжем. Иначе она навсегда останется одна в этом безнадежном, безвыходном тупике, куда попала по собственной вине.
Глава четырнадцатая
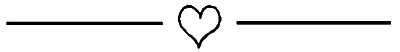
Начиная с того дня, как газеты огласили помолвку Нелли с Фонтранжем, судьба сперва робко, а затем все более энергично начала принимать участие в игре Нелли. Гастон отослал назад ее письма, которые были тотчас сожжены. Люлю развела огонь в старинной жаровне, какими нынче пользовались разве лишь самоубийцы, и Нелли, сидя перед ней, ворошила кочергой ярко рдеющую пачку, постепенно обращавшуюся в пепел. Но этого Гастону показалось мало: он попал в авиакатастрофу и в результате частично утратил память. Нелли сообщили о несчастье. Она даже не знала, чего ей больше хочется — остаться в уцелевшей половине памяти Гастона или кануть в забвение. Она пошла навестить его. Он ее не узнал. Ему сказали, что это его кузина, и он легко согласился, поверил и вел себя тихо и скромно, как и подобает в присутствии родственницы. На самом деле, воспоминания женщин о мужчинах, которые их любили — ничто перед воспоминаниями мужчин о своих возлюбленных; сидя рядом с Гастоном, Нелли не только не смогла припомнить хоть какую-нибудь малость о них двоих, но и ровно ничего не почувствовала. При виде того, как Гастон с новым интересом изучает и разглядывает ее, касается почтительно, словно незнакомки, Нелли ощутила в себе пугающую первозданную чистоту. И еще ядовитую зависть к этому заново родившемуся Гастону, который так легко освободился от стигматов прежней жизни. Где он — тот самолет, что мог бы и ее сбросить на первой попавшейся обочине, между первыми в ее жизни деревьями и людьми, самолет, что позволил бы ей предстать перед Реджинальдом (даже здесь она помнила о Реджинальде) без всяких умолчаний, без всяких тайн, которые навсегда затерялись, умерли бы в лишенном сознания и памяти теле?! После свидания с Гастоном Нелли стала часто летать на самолетах. Разумеется, она не верила в чудеса, но — мало ли что может случиться! Бравые авиаторы, на руках поднимавшие в кабину аэроплана эту прелестную пассажирку, и не подозревали о том, что она ищет среди них новой непорочности.
А затем, в один прекрасный день, в игру вошел Фонтранж.
— Это очень срочно? — спросила секретарша Реджинальда у Фонтранжа. — Господин Реджинальд ни в коем случае не хотел бы заставлять вас ждать, но у него сейчас состоится подписание договора о франко-иракской дружбе.
Фонтранж улыбнулся. Ему казалось, что то, зачем он пришел, намного важнее дружбы между Парижем и Багдадом, скрепленной подписями обеих сторон. Предположим, подумал он, какой-нибудь врач, специалист по отитам, занят подписанием договора о франко-прусской дружбе в то время, как требуется срочная операция ребенку. Я полагаю, участники договора не стали бы мешкать, особенно, если бы речь шла о сыне одного из них.
— Простите, но это очень срочно.
Секретарша ввела его в кабинет, где Реджинальд и второй атташе дочитывали последние статьи договора, и усадила в кресло. Фонтранж с интересом разглядывал договор. Ему никогда еще не приходилось видеть подобных документов даже издали, и он слегка разочаровался. В его представлении это должен был быть пергаментный свиток, перевязанный трехцветными лентами, с красивыми заглавными буквами, выписанными на старинный манер, — словом, со всеми аксессуарами, которые уже сами по себе способствуют примирению и дружбе. Увы, из своего кресла он видел самые банальные машинописные страницы, соединенные скрепками. Гаруну-аль-Рашиду такое не пришлось бы по вкусу.
Затем он стал изучать Реджинальда. «Esse homo, — подумал он, — это настоящий человек». Но явно не счастливый. Какой-то отсвет еще лежал на нем. Но отсвет холодный, точно остывший пепел. Последние сполохи ушедшего счастья. Он, Фонтранж, наверное, сиял бы от радости, подписывая договор о дружбе с Ираком. Нет, Нелли жестоко ошиблась: этот человек, сдержанный, высокомерный, с учтивой улыбкой, никак не мог превратиться в Тамар. Тамар возликовала бы, доведись ей заключить договор о дружбе с чистокровными арабскими лошадьми, со своими приятелями-верблюдами, с голубыми дроздами и крупными зайцами, выскакивающими прямо у вас из-под ног в развалинах Вавилона. Реджинальд производил впечатление человека, который еще долго не сможет заключать договоры о дружбе ни с Кербелой, ни с Моссулем, и уж, конечно, не с городами прошлого — с Ниневией, например. Сразу чувствовалось, что с прошлым он не в ладах. Всем своим видом он отрицал его. И на Фонтранжа он смотрел так, словно тот сидит в его кабинете целую вечность.
— Я в вашем распоряжении, — сказал он, подходя к Фонтранжу. — Нас будут беспокоить, но вы не обращайте внимания.
Фонтранж искал предмет разговора, который позволил бы ему плавно перейти от иракского соглашения к беседе о Нелли. Такой предмет имелся — можно было начать с Тамар. Но Фонтранж теперь ясно понимал, что у этого человека нет ничего общего с Тамар, и он заранее отказался прибегать к ее помощи… Отчего те, кому доверяют заключение договоров о дружбе, всегда так холодны и замкнуты? Фонтранж знал массу людей, что подписали бы такой договор с волнением и радостью. Он и сам готов был заключить договор с Реджинальдом. Впрочем, именно ради этого он и пришел, — чтобы договориться о соглашении между мужчинами, между двумя условностями, какие являют собою время и реальная действительность.
И он сказал:
— Я женюсь.
Лицо Реджинальда на миг затуманилось. Ясно было, что мысль о браке ему неприятна. И не потому, что речь шла о Фонтранже, — просто брак подразумевал наличие женщины, а он готов был беседовать на любые темы, кроме этой.
— Примите мои поздравления, — ответил он.
— Я женюсь на Нелли, — продолжал Фонтранж.
Вошел начальник протокольного отдела; он хотел обсудить церемонию подписания. Судя по его любезному виду, он даже мысли не допускал, что присутствие Фонтранжа может помешать заключению договора. Фонтранж тоже так думал и не стал откланиваться. Впрочем, Реджинальд почти тотчас же вернулся к нему.
— Поздравляю вас вдвойне.
— Месье, — сказал Фонтранж, — я читаю в ваших глазах вопрос: «Почему это должно меня интересовать?» Вы либо неискренни, либо неверно понимаете смысл своей личной жизни. Это событие интересно для вас ровно в той мере, в какой вас интересует собственное счастье, в какой мере счастье выше несчастья. Я женюсь на женщине, которая любит вас, которую любите вы, и вы ничего мне не скажете?
— Я вас не понимаю.
— Для начала произнесите вслух ее имя. Не бойтесь называть его, пусть оно звучит в вашей речи. Вы так скованы и чопорны не потому, что не хотите говорить о ней, — просто вы поклялись себе никогда больше не произносить ее имени, не правда ли?
Реджинальд внимательнее вгляделся в Фонтранжа. Этот человек сказал правду. В течение трех последних месяцев Реджинальд вел борьбу не столько с мыслями и воспоминаниями о Нелли, сколько против ее имени. Он решился жить дальше, отогнав от себя не образ Нелли, но звук ее имени, составлявшего самую прочную основу их любви, и эта любовь, побежденная упорством Реджинальда, разумеется, сошла бы на нет. Он уже мог смотреть на мир, не слишком при этом страдая, говорить и слушать, не слишком страдая, но стоило этому имени возникнуть у него в памяти, ему становилось худо. Он пытался избавиться от него так, как отвыкают от курения, от алкоголя. Он уже мог почти без боли слушать, как его произносят другие. Ему казалось, что он навсегда отнял у нее имя. Она спала без имени, вставала, принимала ванну, завтракала без имени. Она превратилась в безымянный призрак, который ускользал из воспоминаний, не задерживался в мыслях, уподобляясь тем полузабытым женщинам, что смущали непорочного студентика Реджинальда в юности. Она была соблазном, искушением — все еще влекущим, но уже недоступным, ибо лишилась главного — имени. Она часто являлась к нему по ночам — такой близкий, но мятущийся дух; она тоже искала свое имя, в стремлении вновь утвердиться на земле, и тоскливо, безнадежно выкрикивала подряд имена всех святых, что могли быть ее покровительницами, без конца перебирая их и не находя нужного. Он глядел на нее и, удерживая во рту верное имя, точно косточку плода, ждал, безжалостно ждал, когда она в отчаянии улетит прочь, готовая последовать за всяким, кто подарит ей любое имя, готовая обнять даже Реджинальда, назови он ее Жанной, Урсулой или Мириам. Но он остерегался выговаривать и эти имена. Нет, он не произнесет его вслух перед Фонтранжем. Иначе Нелли (Господи, как больно! Зачем он все-таки назвал ее?!) тотчас же вернется.