Нелли не хотела такого исхода. До сих пор она сама распоряжалась своей судьбой. Да и Реджинальд, со своей стороны, все еще продолжал колебаться. Он видел, как Нелли то обретает былое величие, то остается совсем безоружной, то поднимается над любыми законами, то беззащитно уступает самой малой горести. Даже ему, так настрадавшемуся от ее лжи, она казалась не столько лгуньей, сколько злосчастной союзницей, которую истинно человеческая жизнь коварно выдала на растерзание низменной жизни с ее механическим, отвлеченным правосудием, готовым сурово покарать свою жертву. Нередко Реджинальду хотелось ласково обнять Нелли, — ведь он чувствовал ее любовь, чувствовал, что ни в чем главном она не солгала ему; она любила его больше всего на свете, она была его единственной женой, они вдвоем составляли такую идеальную пару. И он смутно понимал, что на этой вершине, в этой стране любви, где так мало истинно любящих, дозволялось нарушать обычные людские законы, что здесь перед лгуньей можно было преклонить колени, страстно обнять ее, взять в жены, создав, таким образом, драгоценный прецедент для будущих, обновленных поколений. Но он так и не понял всего до конца. В этом внезапном расцвете Нелли, в неожиданном приливе гордой радости, осветившей все ее существо, он не разглядел того, что случилось с нею в действительности: она достигла врат царства, где безразлично все, кроме преданности и любви, где человек познает любовь до самых дальних ее пределов, вплоть до смерти; он увидел в ней не отблеск всех опасностей, всех горестей и красот любви, в огне которой она сгорала (да и он обгорел основательно), но некое упрямое отторжение, вызов тому всепрощению, той жалости, что переполняли, казалось ему, душу, — тогда как на самом деле там гнездились лишь ревность и лихорадочная страсть.
Вот почему при расставании он сказал ей:
— До завтра.
Вот почему она ответила:
— До завтра.
И вот почему они больше не увиделись.
Глава двенадцатая
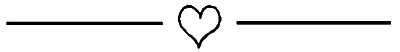
Нелли никогда не страдала комплексом неполноценности по отношению к окружающему миру, который не внушал ей ни восхищения, ни уважения; у нее имелось три-четыре способа защиты от него. Первым был, конечно, Реджинальд, дни счастья с Реджинальдом. Вторым являлся Сталин. Третьим служил Фонтранж. Понятно, она напала на них не случайно. И то, что ее вполне банальная душа влеклась именно к этим светилам, говорило о ней скорее хорошо, чем дурно. Нам уже известно, чего она ждала от Реджинальда. Она еще не знала, чего ждет от Сталина, но ее не оставляло подспудное убеждение, что, если однажды ей придется просить помощи у этого сверхчеловека, он сумеет отомстить за нее всем обидчикам. Отомстить за подлости, за интриги против нее, за ее бедность. Пока что момент еще не настал. Наконец, был еще замечательный человек по имени Фонтранж, — ей рассказала о нем Эглантина. И вот Нелли, расставшись с Реджинальдом, подобно адмиралу затонувшего флота или больному, судорожно ищущему траву-противоядие (на сей раз Сталин не помог бы, он был бессилен вернуть ускользнувшую любовь), принялась искать Фонтранжа.
Она искала его, как искала бы Сталина, если бы ей понадобилась месть за серую, мерзкую, полную компромиссов жизнь. Но к какой защите — и от чего — стремилась Нелли? Когда она пыталась это осмыслить, то понимала, что ее враги — ложная добродетель, предрассудки людей, лишенных воображения, наконец, сама жизнь в той мере, в какой она лишена воображения. Сравнение с Реджинальдом было, разумеется, не в пользу Фонтранжа, но Нелли ждала от него спасения, как маленькая обиженная жизнью цветочница ждет его от Чарли Чаплина. В тот день, когда она решилась искать у него помощи, она уже знала, что ей придется выстроить на пепелище, подальше от дворцов, какие строят люди, домик без фундамента, без первого этажа, со вторым, подвешенным на веревочках к небу, с озером без воды, где, тем не менее, купаются и откуда выходят омытыми чище, чем из источников Грааля, с садом, где корни растений будут вздыматься кверху, а цветы — расцветать под землей.
И вот она увидела Фонтранжа. Она знала историю его сына, историю его лошади Себы, историю Эглантины. Все, что она видела в театре, читала в книгах, внушало ей неприязнь, казалось фальшивым, как фальшива оперная ария. До чего жалки эти Вертеры, эти Манон! Невозможность отменить обязательства, взятые за вас жизнью без вашего согласия, невозможность отрицать прошлое приводили Нелли к сомнению в своей правоте. Кто мог оправдать ее в собственных глазах? Мать? Но мать упрекала ее в исчезновении Гастона так, словно Нелли держит его где-то под замком. «Быдло», тот скромный люд, который, казалось ей, любит и понимает ее? Вовсе нет. Теперь-то «быдло» как раз и предало Нелли. Подметальщики и садовники замечали ее на две-три секунды позже обычного, и ей доставались то лишняя горсть зловонной пыли, то холодные брызги из шланга. Дорожные рабочие вместо восхищенных слов бросали ей вслед лестные, но снисходительно-грубоватые похвалы. Однажды, внезапно проникнувшись доверием к тому, что не отдавало богатством, развратом, эгоизмом, и возненавидев такси и роскошные частные лимузины, Нелли села в автобус: пассажиры упорно бойкотировали ее, глядя не просто как на чужую, но как на нежелательную спутницу; все они — и кондукторша, и булочница, и сгорбленный старичок — не сговариваясь, заключили союз против нее.
Потом наступил день, когда ей пришлось буквально пройти сквозь строй «быдла»: она ехала на такси в Мант, посмотреть Шестидневную велосипедную гонку. Эта поездка стала сплошным кошмаром. Все они, как будто нарочно, вышли и встали у нее на дороге. Она узнавала парней с красными кашне на шее, в бордовых или полосатых желто-бело-зеленых майках, и их подружек, с которыми раньше частенько болтала, и рабочих, которых встречала на муниципальных выборах, и их жен, и золотушных детишек, которых гладила по головке, желая снискать похвалы и уподобиться королевам, что исцеляли больных наложением рук. И все они, замершие было на обочине чуть ли не по стойке смирно, вдруг двинулись к ней, так что ей почудилось, будто она принимает парад не менее миллиона парижан, коих считала своими сторонниками, тогда как они оказались врагами, — точь в точь восставшие солдаты перед генералом, который, свято уповая на благородные чувства своих доблестных войск, решил обойти их строй, а угодил в заварушку. Неужели их так возмутила ее крошечная шляпка в стиле Второй Империи, что они начали швыряться скомканными газетами прямо ей в лицо, вынудив поскорее поднять стекло, о которое еще с километр ударялись шуршащие комки?! Нет, просто они увидели ее в одиночестве, увидели ее печальной, почуяли, что она нуждается в надежной поддержке — поддержке таких, как они. Оказавшись на десять минут беззащитной мишенью людской подлости, насмешек и злорадства, она, без сомнения, расплакалась бы, если бы не старый шофер, который в невозмутимом молчании вел машину, не обращая ни малейшего внимания на летящие ему в лицо газеты. «Веселятся ребята!» — только и сказал он, подъезжая к Манту. Как он мог принять за веселье этот разгул злобного хулиганья, разъяренных ведьм?! Впрочем, и дома началось то же самое: поставщики, торговцы и прочие обитатели квартала дружно пошли на нее в атаку. Малышка Люлю кипела от ярости, возвращаясь из бакалейной лавки или бистро, где сражалась за Мадам, которую маляры обзывали вовсе не мадам, а просто мадемуазель. А ведь всем известно, что это означает.
— Мадам — точно Мадам! — кричала Люлю, готовая кошкой прыгнуть на обидчиков.
Маляры ухмылялись и подмигивали штукатурам.
— А много ли господ ходит к твоей Мадам?
Глупышка Люлю попадалась на их удочку.
— Конечно, много. И они будут покрасивше вашего. Вы только и знаете, что ляпать всюду краску да штукатурку.
— Ну, а они, небось, наоборот, снимают краску с твоей Мадам?
Люлю смутно понимала, что вступила на скользкую почву.