Говорю это не потому, что ненавижу Александра. Нет! Он из начальника стражи в Жабокреке сделал меня катепаном Брандовея, но те слова, Видул, что ты тогда мне сказал, я запомнил и никогда не забуду: «Царь назначает тебя катепаном не из благодарности — такого он не делает, а оттого, что он сообразителен и знает, что не найти ему лучшего катепана для пограничной крепости, чем ты, раз ты, имея всего восемьдесят человек, сумел отогнать триста всадников и принести ему седла двенадцати из них»…
Знаю: скажи я перед всеми болярами «да» — могу стать катепаном и Тырновграда и первым среди приближенных царя… И лесов, где я буду охотиться, будет у меня больше, чем у Драгшана… Будут у меня и кони, уступающие лишь царским, и меч с золотой рукоятью.
Знаю, что так будет, но знаю, Видул, и другое: недолгой будет моя радость, да и царева тоже, ибо царство, поделенное на два, все равно завтра или послезавтра растопчут копыта басурманских коней… Ежели мы не опомнимся и не объединимся. Ежели не сохраним царства в целости и не обережем сами себя.
Знаю, что ничтожно это «ежели», знаю, что надежда слаба, но коли сбудется она, то государство наше будет спасено. Коли то, что меня нет на совете, заставит других призадуматься — боляр и катепанов, у которых Александр собирается для вида просить согласия на раздел… Коли известие о моей смерти заставит Александра отказаться от раздела…
Я этого не увижу, меня завтра похоронят, не отпевая, и не на кладбище, а здесь, под полом этой кельи.
Мне уж и могилу выкопали, чтобы сильнее обуял меня страх перед смертью. Придумал это Гульдар, а может, и царь его подучил, чтоб меня запугать… Эх, не успел я ему, Гульдару, голову отрубить, когда меч был у меня в руке, а теперь поздно. Он вроде как ждал этого и отскочил к дверям, да и кольчуга была у него под одеждой. Но какой толк отрубать голову Гульдару, какой толк, коли пустая царская голова надумала делить царство, она-то все равно бы осталась, а она выше всех в царстве.
О чем только не передумает человек, когда он смотрит на свою могилу. Думаю и я. Не стану лгать, будто все мои мысли в этот миг лишь о разделе государства. И о басурманах, что идут на нас с Востока. Грешные мысли барабанами бьют мне в уши: «Пошто сам против себя меч обращаешь, человече? Пошто по доброй воле с белым светом расстаешься? И со всем, что есть на нем? Ты, Никола, катепан, что ведро вина выпиваешь и по три дня охотишься, что зубами кости жареного барашка, как соломинки, разгрызаешь? А сколько еще на свете барашков, которых можно зажарить! Сколько рыбы в реках… (Ох, до чего я люблю ушицу.) Скольких еще кабанов можешь ты убить, на скольких быстрых конях скакать… Скольких жен перелюбить. А ты расстаешься с этой землей и со всеми ее утехами…
Прощай, Видул…
Дьякон скажет тебе, где меня зароют, но ты не ищи этого места, кому нужны чьи-то кости? А письмо мое царю, прошу тебя, прочти и ему передай.
От Николы царской милостью катепана Брандовея — поклон!
Царь, сказал я твоим посланцам «нет». Повторяю это и тебе.
Лучше умру, но не приду на твой царский совет и не соглашусь, чтобы ты делил царство между сыновьями.
Я, царь, не видал еще, чтоб глухой стал слышать, чтоб слепой прозрел, а глупец поумнел, но коли у тебя осталась хоть капля разума, положи в один мешок сына своего Страцимира, а в другой — Шишмана, брось жребий и кинь одного из них в Янтру. Пусть останется у тебя один сын и один царь у Болгарии в этот грозный для державы нашей час. Потом собери войско и двинь его на басурман. Эх, быть бы мне начальником этой конницы! У тебя попросил бы я лишь железа и корма для лошадей. Вихрем пронесся бы я от Филиппополиса до Одрина. И клянусь тебе, вихрь этот смел бы все на своем пути…
Пошто, о слепец, сооружаешь ты крепость за крепостью? Пошто переводишь камни и известь, чтобы прикрыть стенами грудь воинов? Взгляни на басурман — строят ли они крепости? Нет, они их разрушают: Димотику они сровняли с землей. От Галлиполи не оставили камня на камне. Они не строят крепости, потому что не обороняются, а нападают. Воины их уповают не на стены, а на свои мечи и свою силу. Взгляни, в какое войско они превратили наших сыновей! В каких янычар!
Забудь о крепостях! Это крепости, уже отданные врагу. Крепость воина — сердце. Воин тогда воин, когда он сражается и побеждает. Купи железа, хлеба и овса. Вели согнать коней! Отрежь языки твоим льстецам, что предают тебя своими елейными речами. Выбери мужей достойных, поставь их во главе войска и поведи его, а не то покорят нас прежде, чем мои кости истлеют в земле.
Долго ты был глух и слеп, Александр. Это говорит тебе тот, кто стоит одной ногой в могиле… Страх смерти не самое сильное на свете. Я, Никола, не испугался смерти и предпочел с жизнью расстаться, чем сказать «да» и одобрить твою царскую глупость.
Кланяюсь тебе из могилы.
Перевод М. Тарасовой.
ОДОЛЕЛ СЕБЯ ЧЕЛОВЕК
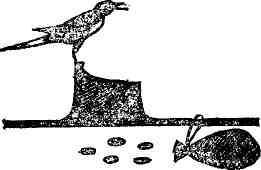
Бук этот попался мне в октябре. Медно-ржавая листва его еще не облетела, и он походил на запахнувшегося в кожух старика, что боится скинуть свое лиственное одеяние раньше, чем весеннее солнце согреет крутое ущелье Татарицы. На стволе его были видны обломанные сучья с черными отверстиями в середине — странно подпухшие пьяные глаза, злобно уставившиеся в соседние пихты и сосны. Словом, старый засохший бук подлежал рубке, и я, лесничий, кивнул смотрителю участка Маринскому, чтоб тот его маркировал.
Но вместо того, чтоб двинуться к дереву с топором, смотритель остался стоять на месте, опустив руки.
— Товарищ лесничий, а п-правильно ли будет? — запинаясь, произнес он. — Место крутое, пусть себе стоит, склон держит!..
Наверное, надо было задуматься и над деревом, и над необычным поведением Маринского, но времени на это не было, и я резко приказал ему выполнять то, что велено. Последовала короткая пауза, и топор застучал по дереву.
В мае, снова обходя участок, я с удивлением обнаружил, что бук стоит себе прямехонек, даже горделивее прежнего. Осенние листья опали, открыв его худосочное тело. Смотрел он на меня своими подпухшими черными глазницами как-то насмешливо. Дерево помиловали. Номер был старательно стерт и замазан мокрой землей. Маринский был в отпуске, и гроза, которая должна была обрушиться на его голову, на этот раз рассеялась; я не сомневался, что это его работа. Маринский относился к лесу и деревьям, к высоким скалам и ветрам, как к живым существам, и вполне мог вымарать номер, чтобы спасти дерево, которое бог весть почему ему полюбилось.
Я приказал срубить дерево, не зная, что в нем таилась частица человеческой судьбы.
Не прошло и трех-четырех дней, как ко мне пришел лесник, замещавший Маринского, и доложил, что бук срублен и что в стволе его обнаружен ружейный патрон. Это меня заинтересовало, тем более, что патрон плотно врос в древесину. Я решил сходить на Татарицу.
На другой день, еще до восхода солнца, мы тронулись в путь. На этот раз дорога показалась мне долгой и утомительно петляющей. Только на лесосеке сердце успокоилось, и я быстро пошел туда, где недавно стоял старый бук. Сейчас от него остались лишь куча щепок, сучья и узловатый ствол. Ствол был плотный, совершенно здоровый. Только самая сердцевина, толщиной в кулак, прогнила, и в нее-то врос, на полтора сантиметра выйдя в здоровую часть, позеленевший патрон. Очевидно, он попал сюда давно, но каким образом? Будь это пуля, можно было бы предположить, что в дерево стреляли. Но чтоб патрон вместе с пулей попал в дерево и там засел — это показалось мне странным. И тогда в голове сложилась уже не догадка, а твердая уверенность, что патрон связан как-то с поведением Маринского и что только Маринский может распутать этот запутанный узел. Я велел отрубить от ствола кругляк вместе с патроном и с нетерпением принялся ждать, когда Маринский вернется из отпуска.