После одного такого случая решил я срубить дерево, а там будь что будет. Ждать, пока уйдут землемеры, невмоготу. Завтра чуть свет прокрадусь незаметно в лес и вырву золотую душу бука.
На заре, лишь только забелело окошко, я надел постолы, чтоб не хрустели сухие ветки под ногами, сунул в карман два кизиловых клина, провел топором по точилу, и еще не рассвело, как я уже был на дороге к Медвежьей поляне. Но только я сделал несколько шагов, как спохватился: на такое дело по большакам не ходят. И свернул на волчью тропу через хребет. А хребет этот, ну будто лезвие топора. Круто — и вершины не видать! Ползком, на карачках, кое-как выбрался наверх. Но сердце так ухало, что пришлось сесть и передохнуть.
«Орлиный камень» — так зовется эта вершина. Скал здесь нет, орлов нет, одна каменная россыпь, а назвали «Орлиной» оттого, что отсюда видно, как с облаков. Дохнул ветер, смел в долину темные пряди ночи, колыхнул холмы, точно сине-зеленые волны, открылось ущелье, выкупанное в росе, и увидел я, как разукрасила его осень, пока я дремал в своей сторожке. Точно огненный змей пролетел над долиной — все превратилось в жар и пламень. Внизу жар и пламень, а наверху, на опаленных ребрах, — первый иней белеет. Ели были, как всегда, зеленые, только гудели как-то басовитей и вздыхали печально так. Когда взошло солнце, я не заметил, увидел только, как вдруг засверкал вверху иней, внизу — роса, как запылали уши Синего холма и лес засмеялся. Я так загляделся, что выпустил из рук топор, и он брякнулся на землю. А меня словно кто по голове хватил, горькая мысль застучала в мозгу: «Зачем тебе этот стальной убийца? С лесом хочешь распрощаться? Ну что ж, бей, прощайся! Двадцать два года лес тебя на руках, как мать родная, качал, поил, кормил, баюкал. Ступай, пока не зазвенели на Перелице овечьи ботала».
Идти, но куда, когда ноги словно отнялись, когда мозги будто расплавились, когда глаза застлали слезы? Ставил я в уме дом, штукатурил, балконы пристраивал и покрывал их красными кошмами, но о том не подумал, что туда не втащишь опустевший буковый лес, опоясанный синими елями, не перенесешь туманы, росы и скалы, ветра и снега! Что не будет там места солнцу и звездам! И что мне делать на том балконе? Встать столбом, чтоб все видели, что это внук Гочо Киндихала поставил себе такой дом? Ну увидят, а дальше что? Веревки плести, на пяльцах вышивать или трещать на мотоцикле по площади? И тут во мне снова заговорил тот голос: «Гочо, Гочо, да неужто ослеп ты и совсем одурел, что меняешь царство целое с лесами и косулями на дом в городе! Небо отдаешь за расписной потолок, тысячи гектаров лугов за одну яркую кошму? Синее взгорье — за какой-то балкон? Не позволяй золотой лихорадке трясти себя! Береги свое богатство, красоту и цену которого только ты знаешь! Пошли ко всем чертям кошель Тосун-бея!»
Наподдал я тогда ногой топор и понесся, как на крыльях, по поляне. И лес вдруг дружно — в полное безветрие — зашумел. Закачались, закланялись сосенки, и я понял, что решил правильно.
Перевод О. Кутасовой.
К ВЕРШИНЕ
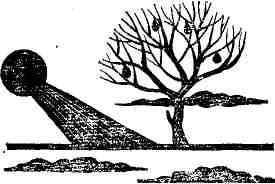
Высохшая старуха рыхлит фасоль у самой речки, а выше, на крутом берегу, ее старик вырубает орешник. Мотыга коротко и звучно тявкает «тча-а», «тча-а», а эхо на обоих берегах удваивает, утраивает эти звуки, и они мчатся наперегонки, словно по скалам цокают копыта. Старик отвечает своим «тча-а», но оно тоньше старухиного, потому что он рубит кусты не топором, а косарем, и лишь этот разноголосый диалог оживляет притихшие в пекло горные дебри.
Речка, обычно бурная и пенистая, еле слышно перебирает донные камни и кротко облизывает прибрежные скалы. Буковый лес молчит. Говорливые вершинные сосны стоят сейчас тихо, вслушиваясь в цоканье дьявольских копыт.
Мотыга замолкает. Женщина выпрямляется, вытирает разгоряченное лицо и кричит, глядя наверх:
— Э-э-эй, Сыботи-и-ин, слышишь, э-эй!
Косарь тоже смолкает, но ответа нет. Старуха что-то бормочет, наклоняется снова, и тявканье мотыги возобновляется.
Старик затыкает нож за пояс и оглядывает срубленный орешник. Старик — невысокого роста, небрит, впалая грудь обнажена и видны поседевшие курчавые космы. Он вырубил орешник, затенявший солнце коричневой гладкокорой груше.
Сыботин щурит глаза, смотрит на грушу, потом — на вершину горы, которую подпирают пепельно-серые скалы, и тяжело вздыхает. Сдвигает ногой обрезки сучьев, садится на землю. Расстегивает привязанный к поясу мешочек мягкой кожи, достает ножик для прививок и начинает медленно править его на оселке.
Сухой отрывистый лай мотыги продолжает биться о скалы, но старик его не слышит. Он глядит на стальное лезвие, а перед глазами снова — вершина. Шестьсот копралей от подножья до вершины — он считал и пересчитывал не раз. Сейчас он остановился на четырехсотой, но это даже не половина пути, потому что каждая копраля кверху стоит двух. Чем круче, тем копрали словно бы длиннее, а ноги будто все короче, и колени все слабее. Да и груша упрямится, боязно ей, не хочет в гору карабкаться… Какая это пытка — привитую, прижившуюся грушу тащить из теплого лога на холодный склон!.. Почитай сотню груш он высадил, а укоренилось всего лишь девять…
Вот и эта горемыка, девятая, едва не убежала обратно. Все грустит о своем саде, все на него поглядывает. К речке наклонилась, словно поплескаться хочет в теплых речных струях, не кверху, а книзу ее тянет.
И все же она его послушалась. Не стала раскидывать ветви, не распушила крону — нет, она навострила ветви, словно мечи, наставила их на ветер, проткнуть его готова, а листья у нее — металл, не листья!.. Эта груша была гордостью Сыботина, сладостной его надеждой, вместе с ней он хотел победить вершину. Перед этим ветер сломал две груши, три погибли в сугробах. Тогда Сыботин понял, что тут нужен крепкий подвой, упорный. Три недели бродил он по лесу, пока не попался ему на глаза грушевый карлик, маленький дикарь. Его и козы обгладывали, и коровы топтали, и ветры хлестали, и снега душили. Это было дерево, озлобленное, колючее, словно еж, закаленное невзгодами, злопамятное. И на новом месте оно не забыло трепки, которую задавал ему ветер. Оно отдало свою долго сдерживаемую первобытную силу черенкам, которые привил ему Сыботин. И от объятий культурного и дикого родились плоды — три груши, крупные и сочные. Одна упала, но две уцелели. Старик принес их в хибару, уложил на желтой сухой соломе и долго любовался ими, долго радовался. Правда, кожица у них была шероховатая, ножки — короткие, толстые, но сами плоды были крупные, сочные, и от них исходил дивный аромат.
Это был счастливый день, жаль, старуха испортила его своей руготней. Она вошла, когда две груши красовались на его ладони, как два маленьких солнца. Он поднес их ей, а она оттолкнула его руку и разоралась:
— Живьем закопал ты меня в этой глуши! Помешался на этих грушах, волочишь их в гору и плевать тебе на все остальное. На вурдалака стал похож… Не желаю больше жить под одной крышей с упырем! Или ты растопчешь эти проклятые груши, или я уйду на ту сторону, к сыну!
Растоптать груши! Да в них вся душа его!
Старуха ушла и с месяц не объявлялась. Некому было огонь развести, кастрюлей брякнуть, кашлянуть ночью. Тишина его угнетала, одиночество мучило. Даже брань готов он был сносить, лишь бы голос человеческий слышать, словцом хоть с кем-то перекинуться. Хорошо, что старуха все-таки возвратилась. Скрипнула однажды вечером дверь, и она вошла. Вернулась тихая, смирная. Ну и теперь, бывает, ворчит, не без этого, но не орет, не костит его, как прежде. В село ходит, с трудоднями улаживает, покупает, продает, а он — он только свой ножик и знает.
Постарел, похудел ножик… Погнулось лезвие, сдаваться стало — и оселку, и годам своим… Сменить бы оселок надо. Уж очень лютует — железо сгрызает. Точь-в-точь старуха — языком шевельнет, как ошпарит. Ревнует его к грушам. Седьмую это она ободрала, чтобы та усохла. Тишком ободрала, ногтями, а потом сказала, что слышала, будто косули там ревели… Чтоб он поверил, будто это косули кору обгрызли… Женщина, что тут скажешь! Как-то пожаловался он, что поясницу ломит, так она нет чтоб пожалеть — чуть не сожрала его со всеми потрохами: