Однажды он заметил, что дочь смотрится в медное блюдо — и тотчас переломал всю, какая была в хижине, медную посуду, переломал и в землю зарыл. Волосы Марии он не просто состригал, даже огнем опалил, чтоб и не росли вовсе. Прялки, ножницы, иголки — все, что бывает в женском обиходе, — выкинул, уничтожил, опасаясь, как бы не проснулась в дочери женщина. Зорко следил, чтоб не повстречала она мужчину — ни молодого, ни старого, и сумел воспитать дочь настоящим волкодавом, который, не зная пощады, вонзает когти в загривок врага.
Мария всегда шла впереди, отец, прихрамывая, плелся сзади, прикидываясь то нищим слепцом, то угольщиком, то продавцом уксуса. Она-то и придумывала всяческие хитрости, перепрыгивала, когда надо, через высоченные ограды, когда надо, стреляла и вонзала неприятелю в грудь козий рог. Долго все шло, как хотелось Караивану, но неожиданно произошло такое, что ввергло старика в смертный грех. Поджидая подходящего случая для расправы с Меко, Мария с отцом прожили больше недели под кровом одного чабана. Прятались там, ели, спали и вдруг все то, что целых девять лет Караиван безжалостно вытаптывал, проклюнулось, пробилось в девичьей душе: Мария-мстительница полюбила красавца чабана, и не подозревавшего о том, что под алой безрукавкой юного мстителя бьется пылкое сердце женщины. Блеск Марииных глаз, румянец, внезапно сменявшийся смертельной бледностью, открыли Караивану тайну дочери. Какая буря поднялась в душе этого сильного и страшного человека, какая сатанинская ревность затопила его сердце, можно судить по тому, что когда Меко покончил с собой и отец с дочерью покинули приютившую их пастушью хижину, Караиван — под предлогом, что забыл там огниво, — вернулся и убил чабана, чтоб Мария никогда больше не увидела его.
Не знал Караиван о том, что Мария уже уговорилась с тем чабаном встретиться в воскресенье на гулянье, а у Марии и мысли не было, что ее отец лишил жизни того, кого она полюбила всем сердцем. Узнала ли она после того гулянья про смерть любимого, или преступление отца осталось для нее тайной? Этого мы не знаем. Возможно, тут-то исповедь и оборвалась, а, может, исповеднику изменила память.
Кровавую эту историю я еще мальчишкой слышал от отца Аверкия, престарелого монаха из кукленского монастыря святых Козьмы и Демьяна. Жил он не в самом монастыре, а поблизости, в лачуге, которую построил своими руками. Говорили люди, что настоятель выгнал Аверкия из монастыря за то, что тот рассказывал про его воровство. Старый монах не знал о том, что настоятель пользуется расположением и поддержкой владыки и посему оказался на старости лет за воротами. Питался Аверкий плодами дикорастущих деревьев и подаяниями. Я не раз видел, как он толчет сухие кукурузные початки и, смешав с мукой, печет на камнях. Был он отчаянным табакуром, а курева купить было не на что. Проходя мимо его лачуги, мы, пастушата, слышали, как он выпрашивает у людей табачку и, бывало, подбирали на поле табачные листья и приносили ему, а он в благодарность рассказывал нам всякие страшные истории о временах туретчины. Одра из этих историй — о Караиване и его дочери Марии-мстительнице, прозванной также Козий рог. Монах, при котором началось его, Аверкия, монашество, был тот самый исповедник, от кого Караиван получил последнее причастие.
Отец Аверкий и сегодня будто стоит у меня перед глазами — на плечах выгоревшая ряса, ноги кусками кожи обмотаны, седые усы от табачного дыма точно в ржавчине. Каждый раз, когда он рассказывал о Марии, глаза его застилало слезами. Взволнованно сплевывая на пол крошки табаку, он заключал рассказ всегда одними и теми же словами:
— Неправд на свете много, а Мария одна! Потому-то и по сей день нету на земле справедливости!
Перевод М. Михелевич.
ГРЕХ
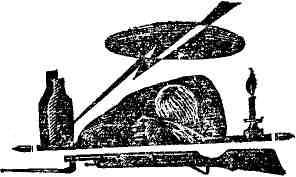
Привольная была жизнь, когда мы пасли овец Сейрекоолу в Сарышабанской долине. Старший пастух, Гочо, знал эти места, находил самые что ни на есть хорошие пастбища, и овцы у нас стали круглые, точно гайды. Когда они бежали, загривки у них так и тряслись. Бывало, Сейрекоолу как придет в кошару, глаз не может от них отвести. Да и не он один: тогда люди смотрели не на то, как ты языком работаешь, что болтаешь, а какие у тебя овцы и ягнята. По ним и судили, что ты за человек, чего стоишь.
А потому, куда бы мы с Гочо ни перегоняли отару, все старались пройти через соседнее село Алмали. Я овец гоню, а Гочо идет за мной немного поодаль — слушает, похвалит ли нас народ.
Я, правда, говорил ему, что уж слишком мы туда зачастили — село было наполовину турецкое, да и было это в прежние времена, при турках, но Гочо был упрям и слышать ничего не хотел: «У меня, говорит, револьверт за поясом есть, плевать я хотел хоть на турка, хоть на черкеса»…
И ровно сглазил. Смотрим как-то вечером: откуда ни возьмись — турки. Идет к кошаре Кантемир со своими головорезами. Здоровенные мужики. В сапогах, в расшитых кафтанах с галунами. Точно наши. Поверх кафтанов — патронташи, всякие висюльки да цепочки, а пояса оттопырились от заткнутых за них пистолетов и кинжалов. А у одного за поясом даже джезве — кофе варить. Спокойные. Никого и ничего не боятся. Что мы — райя! «Тащи барашка! Зажарь! Тащи ракию! Давай закуску!» И мы тащили. Нас двое, а их четверо. У нас один пистолет, а они оружием увешаны.
Ну да ладно. Съели они барашка, поправили чалмы и ушли. Один из них, который был в сапогах выше колен с отворотами, сказал, что послезавтра они опять придут и велел приготовить им двести лир… Мы говорим, что мы люди бедные, чужой скот пасем, а они знай свое: «Чтобы послезавтра деньги были!»
Ушли они, я Гочо говорю: «Видишь, что вышло из наших прогулок по Алмали… Ты все своим револьвертом хвалился, погляжу я теперь, что ты будешь делать с этими разбойниками!»
— Придут, убьем! — отвечает Гочо.
А они взяли и вправду пришли. Властей они не боялись. С каймакамом они, видно, сговорились, он наверняка с ними в доле был, а потому действовали без всякой опаски. Шагают себе вчетвером, не таятся. Смотрю, Гочо про револьверт и не вспоминает. Говорю ему: «Гочо, дай-ка мне револьверт, а то, как я погляжу, ты его вынимать не собираешься!» А револьверт был хороший, с пятью патронами. Черногорский, с барабаном. Сунул я его за пояс и жду, когда турки поближе подойдут, «Ну что, принесли деньги?» — крикнул тот, что в сапогах с отворотами. «Нету, отвечаю, денег! Ступайте подобру-поздорову и в кошару не входите…»
— Ах так! — Выхватил он из-за пояса кинжал и, матюкаясь, бросился к нам.
Заорали и остальные, но я вскинул пистолет, и когда прогремел выстрел, увидел, что один из них схватился за живот и упал. Выстрелил я и в того, который шел следом за ним — тот тоже грохнулся на землю, а два других смельчака пустились наутек.
— Что ж ты наделал? — запричитал Гочо. — Теперь эти двое, которых ты упустил, вернутся и нас прикончат.
— Они-то, может, и вернутся, только я их не стану дожидаться. Убегу в свободную Болгарию, прямо в комитет![5]
У комитета тогда было отделение в Чепеларе, а граница проходила через перевал на Рожене.
— Ты, — говорю, — не стрелял, тебе бояться нечего. В конце концов все знают, что они разбойники!
И зашагал я, да так прытко, что через два дня добрался до комитетского поста в Караманице. Он был у самой границы, чтобы комитам легче было ее туда и обратно переходить. Рассказал я им, что со мной приключилось, а они отвели меня к воеводе. Завязали мне глаза, чтобы я не мог дороги запомнить. А когда сняли повязку с глаз, то вижу, очутился я в комнате, посредине стол, на столе — лампа, за столом сидит воевода, на груди крест-накрест два патронташа, молодой, взгляд колючий. Смотрит хмуро, ни тебе «здравствуй», ни «добро пожаловать».
— Если ты, — говорит, — шпион, мы тебя живьем изжарим!
5
После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. часть Болгарии, в которую входила Фракия и Македония, осталась в составе Османской империи. В конце XIX века развернулось широкое национально-освободительное движение как на самих этих территориях, так и в Болгарии. Была создана Внутренняя македонская революционная организация (ВМРО), а затем Македонский верховный комитет в Софии, который претендовал на руководство этим движением и вел борьбу с ВМРО.