— Хватит, — говорит, — того, что мы здесь! Если он был зверем, ты не будь!
А сейчас, спросишь ты, что?
А вот что: Руфат вечно мерзнет, осла у Сильвины нет, и вместо того, чтоб ей надрываться — дрова таскать да печку топить для Руфата, за дровами я хожу. Каждый день по поклаже дров привожу, и все не хватает. Акт составил на меня лесник, новый обещает составить, и потому по ночам хожу. Глаза, того гляди, выколю, руки все в кровь изодрал, а рублю, и после, как лесник заснет, тащу дрова через овраг домой, и тело свое корежу из-за того, кто душу мою жег! Ублажаю и согреваю того, по чьей милости всю жизнь то огнем меня жгло, то морозом морозило! А перестать нельзя. Перестану — Сильвине придется по дрова ходить. Да это что, иной раз доводится и по-другому помогать: тяжелый он, а нужно его приподнять, постель ему поменять, да, извини, и вынести за ним. Где слабой женщине с таким делом справиться, а не она, так кто? Опять Рамадан прислуживай Руфату? И прислуживаю, иначе все на Сильвину ляжет. Слышу, как по селу говорят: «Надо же, какой сосед, какой человек!» А того не видят, что у меня там, внутри… А внутри котлы со смолой, брат, кипят! Жду я смерти Руфатовой, чтобы на Сильвине жениться, а он, злодей, не помирает. Вот та смола, что меня жжет! Хочу я в постель с ной лечь, как муж с женой, а уж потом будь что будет… Через жену, детей, через целый выводок внуков перешагну и к ней уйду, но между нею и мной лежит колодой Руфат, лежит, не встает! А время, мил человек, летит, силы не те, и, как знать, может, мы с Сильвиной ляжем, как муж с женой, а проснемся, как брат с сестрой. Думаю я иногда: он мучается, мучаемся и мы, так не открыть ли ему адские врата, в которые он второй год стучится? Не буду я его ни душить, ни топить: оставлю на холоде две-три ночи, и готов он. Так я думаю, но, как дойдет до дела, видятся мне глаза Сильвины, на меня уставленные, и иду опять в лес сушняк для Руфата собирать…
На этом распутье топчусь я сейчас и не знаю, куда идти. Ты, коли можешь подсказать, подскажи, а коли нет, так помоги дрова на осла взвалить, и пойду я, а то он, лиходей, уже от холода дрожит.
Перевод М. Тарасовой.
КАЛИНКИНЫ КОЛОКОЛЬЦЫ
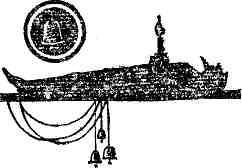
Отчего твоих сигарет не закуриваю, спрашиваешь… А мне слаще самокруточка — сам табачку насыплю, сам сверну, языком лизну, души чуточку в нее вложу… Потому во всяком деле оно так: не вложишь души — ни вкуса, ни сладости нету!
Возьми хоть седло, к примеру — простое, деревянное вьючное седло, ан как смастерят его, беспременно два-три завиточка по тому дереву вырежут, душе на радость, чтоб было оно живое, красивое. Вот и в колокольцах, что у моих баранов и козлов на шею повешены, в них тоже душа есть, хоть они из бронзы отлиты. Может, спросишь — какая еще там душа? Вот в этих двух — серебряных — матери моей покойной душа живет, оттого и зовут их люди Калинкиными колокольцами. Давнишняя это история, еще с той войны, русско-турецкой, когда правоверные Сулеймана-паши бежали от братушек в свой Адрианополь. Две недели проходили тогда турки по нашим местам — злые, голодные, грабили и насильничали, и потому весь народ подался выше в горы, попрятался на овечьих зимовьях. И как раз об ту самую пору несчастная наша матушка родила двух близнецов — меня да брата, так что пришлось и нас тащить на себе. Сунул нас отец в мешок с козьей шерстью, маму с собой повели — она всего четвертый день после родов, — и двинулись они сквозь вьюгу снежную искать убежища на Перелийце. Покуда добрались до кошары, прохватило матушку ветром и вьюгой, и только-только оказалась крыша над головой, как навалилась на нее лихоманка-погубительница. Три дня и три ночи металась она в жару, а к концу третьей ночи прибрал ее господь и оставил нас с братом сиротами. Перед тем, как испустить дух, очнулась матушка, вынула из-за пазухи свадебное монисто свое серебряное и сказала отцу: «Не зарывай его вместе со мной… Полюбил ты меня с монистом этим, и не хочу я, чтобы другая его надела, и оттого прошу тебя, Райо (Райо — так отца моего звали), переплавь ты мое монисто в колокольцы, пускай и поют тебе, и плачут, чтоб помнил про меня и про деточек наших».
Шибко они с отцом любили друг дружку, и как померла она, он за нею в могилу прыгнул, хотел, чтоб зарыли его живьем с нею рядышком.
А колокольцы серебряные отливать — рассказывал он мне спустя годы — пошел он аж в Неврокоп, чтоб сыскать мастера самого что ни на есть искусного. Овец своих оставил на время одному побратиму, к постолам еще одни подошвы подшил, а между подошвами женино монисто серебряное. Не простое это было дело по тем временам — все горы, можно сказать, на своих на двоих пройти до самого Неврокопа: жили мы тогда под турком и много всякого лихого народа по дорогам встречалось. Долгонько добирался отец до нужного города, да не зря. Свел его там случай с мастером Джико — годами молодой, но великий умелец, до ремесла своего охочий и до славы, так что все умение свое вложил он в колокольцы-то эти. А как были они отлиты, подвесил их, сам на шаг отступил и крикнул, словно напугать их хотел:
— Хо-о!
— Дзин-нь! — пропели в ответ колокольцы, а голос у них в точности, какой у матушки нашей был.
Обрадовался отец, полез за деньгами — расплачиваться, но мастер остановил:
— Денег, — говорит, — я с тебя не возьму, но когда запоют в горах твои колокольцы и спросят люди, кто отливал их, ты говори: «Отливал их мастер Джико». Этого с меня довольно.
Поцеловал ему отец на прощанье руку, колокольцы через плечо перекинул и двинулся в обратный путь, но не царской тропой, а напрямки через лес и глушь, подальше от недобрых встреч.
И едва лишь воротился к своим овцам, тут же подвязал новые колокольцы. И как закачались они, как зазвенели ясным голосом — ну просто диву даешься, колокольцы ли пастушьи звенят, колокола ли церковные бьют, или молодухи поют-тоскуют… Тогда-то их и прозвали Калинкиными колокольцами.
Поют, значит, серебряные колокольцы, слушает отец их песню, маму нашу вспоминает, но и про нас тоже думает. С утра до ночи работал-надрывался, чтоб росли сыновья, не зная холода-голода, стадо умножил до пятисот голов — наследство чтоб после себя оставить.
В те времена под осень, как задуют ветры, гнали чабаны свои отары зимовать к Эгейскому морю. А по весне, едва лишь Карлыкская вершина скинет с себя снежную шапку, пригоняли назад. Был у нашего отца обычай — перед тем, как ворочаться домой, посылал с кем-нибудь весточку, чтоб привезли ему заветные те колокольцы, и, вступив в родные горы, сразу привязывал вожакам стада на шею. С того дня, как схоронил он свою любовь, было это ему единственной утехой.
Помню, однажды поднялись мы на Калычборун, он нам тут же:
— Эй, чабаны, давайте сюда колокольцы!
А ведь солнышко едва-едва проглянуло.
Ну, повскакали чабаны, поймали козлов — а те козлы, которым колокольцы подвязывали, красавцы были — загляденье. Им, еще махоньким, туго стягивали веревкой рожки, чтобы выросли прямые, нежили, холили не хуже, чем детей родных, и с годами вымахивали они ростом с осла, горделивые и бородатые, что твой архиерей. А поступь — ну ровно богатей какой по базару вышагивает. Как им колокольцы подвесят, они тут же — морды кверху, друг за дружкой идут, а уж за ними и стадо. В тот день я в первый раз услыхал эти, мамины, колокольцы. Колокольцы-то пастушьи все разные — иные звякнут и замолчат, будто им горло перехватило, а эти — один разок язычок о стенку ударится, а звон десятью волнами прокатится. Покуда разносится окрест звяканье меньших колокольцев, большие басом выводят, как дьякон с амвона. Слушают чабаны, грудь распирает от радости, идут, гонят стадо, и, глядишь, кто-нибудь из них остановится да как гикнет что есть мочи:
— Эге-ге-ге-ге-е!
И не только гикнет, еще из ружья пальнет.