Перед деревней, километрах в трех, рос небольшой лесок — Ближние осинки. Осиной из этого лесочка отапливалась вся наша деревня. Да и не только наша. Случалось, осинник вырубали подчистую, но он снова вырастал. Уже вечерело, когда мы въехали в лесок. Странно устроено в природе: Ближние осинки и лес-то только по названию, а хмурится, шумит, пугает, как настоящий. Не так уж много тени в голом, изреженном лесочке, а сразу как-то потемнело. Деревья враз насупились, насторожились, подступили к искривленной, сузившейся, как бы затаившейся дороге.
Мы с Пашкой не верили ни в домовых, ни в леших, но сейчас почему-то они так и лезли в голову. Вот-вот выскочат из-за темных осинок и загогочут. Но никто не выскакивал, не гоготал. И тогда мы загоготали сами. Так, на всякий случай, кто кого перегогочет.
— Го-го-го-го-о-о! — кричал Пашка.
— Го-го-го-го-о-о! — вторил я.
— Ох-хо-хо-о-о! — испуганно вздыхал лес.
Вдруг мы услышали сквозь вздохи леса какой-то странный крик. Подумали сначала, что кричит чавача. Но вскоре поняли, что голос человеческий. Человек звал на помощь. Крик приближался.
Звездка запрядала ушами, остановилась. Мы сидели на санках ни живы ни мертвы. Вдруг из-за поворота выскочила темная фигура и побежала прямо к нам. То ли от бега, то ли от смятения человек задыхался. И все кричал на каком-то и знакомом и незнакомом языке. Мы узнали Кланю Сокольчук.
— Ой, хлопчики, лыхо! Беда!.. Учителька…
Она вскочила в санки. Пашка взмахнул вожжами. Лошадь понесла, стуча копытами по передку.
— Швыдче, хлопчики, швыдче! — торопила Кланя. — Да скорей же!
Санки то взлетали на изволок, то скатывались в низину, то выносились на опушку, то снова углублялись в лес. Вдруг посреди дороги мы увидели вязанку дров, потом еще одну. А на снегу лицом вниз лежала учительница. Мы подбежали, подняли ее — она была легкая, как перышко, — и усадили в санки. Я подобрал ее берет и увидел, что весь он темный от крови.
Санки были узенькие, неудобные. Мы с Пашкой теснились вдвоем на козлах и все время чувствовали, как трудно дышит за спиной у нас учительница. Иногда нам вдруг казалось, что дыхание совсем остановилось, и тогда мы в ужасе кричали на лошадь. Звездка храпела и спотыкалась, но мы гнали ее, гнали. На ухабах голова учительницы билась о доску козел. Она глухо вскрикивала, а перепуганная Кланя твердила как заведенная:
— Швыдче, швыдче! Скорей, скорей!
У скотных дворов мы чуть не смяли председательницу. Тетка Василиса заругалась было, погрозила кулаком, но, поняв, в чем дело, затрусила вслед за нами к школе. Лицо у нее было растерянное, полушалок сбился набок, волосы раскосматились. Когда она прибежала, учительница лежала в своей комнатке на стареньком клеенчатом диване и отрешенно смотрела в потолок. Кланя же смотрела куда-то в угол. Губы ее вдруг начинали вздрагивать, внезапно вырывался глухой стон, и тогда мы с Пашкой тоже отворачивали глаза.
Тетка Василиса тяжко повалилась на колени и затряслась, захлюпала, мыча сквозь слезы:
— Ох, прости ты меня, старую дуру…
Кланя вдруг заревела, громко, с причитаниями.
— Прошу вас, встаньте, пожалуйста, — заволновалась учительница. — Скверно получилось с этими дровами, но я вас не виню… сама не рассчитала… Не надо, Кланя… что за вытье?
Заметив меня и Пашку, она с какой-то грустной ласковостью улыбнулась и тихо вымолвила, так что мы едва расслышали:
— А вам, ребята, придется в Ленинград… одним… Очень бы хотелось вместе, да где уж мне теперь…
Поздно ночью к нам постучалась Кланя. И я слышал сквозь сон, как бабушка Аксинья открывала свою укладку, шуршала новыми материями и говорила строгим голосом:
— На-ка вот, возьми. Прикроешь тело-то… Себе на саван берегла, да ей, болезной, скорей спонадобилось…
Я вскочил с постели и заплакал. Горько, отчаянно. Так я не плакал, даже когда узнал, что отец мой сгорел в подбитом танке.
Мы хоронили ее всей школой, всей деревней. Хоронили без речей, без музыки, без отпеваний. И нет над ее могилой ни камня, ни креста, ни надписи. Только заросший холмик да куст сирени. Да еще в нашем школьном музее хранится ее медаль «За оборону Ленинграда».
А МАТЬ ВСЕ ЖДЕТ
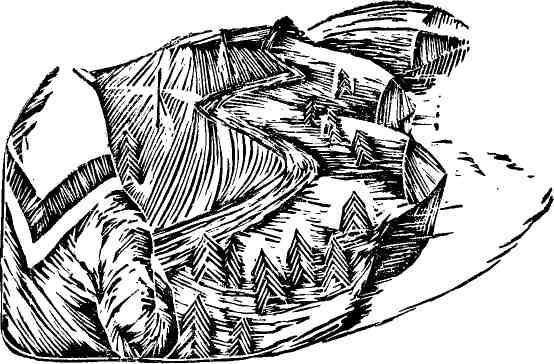
«Ни шагу назад! Стоять насмерть!»
Смысл приказа Верховного Главнокомандующего был настолько ясен, что в Н-ском полку стали спешно готовиться к наступлению.
Перед самым броском через один из низовых притоков Волги решено было «пощекотать» фрицев боевой разведкой.
«Щекотка» немцам не понравилась. По своему обычаю они стали обходить разведывательную роту с флангов, чтобы зажать ее в клещи. Разведчики сумели вырваться, но враг опять начал тревожить фланги. Единственно возможным средством избежать новых клещей был немедленный отход, и рота с тяжкими боями отступала на восток.
На переправе у старого моста решили выставить заслон. Под его защитой рота не только переправилась к своим, но и сумела оторваться от противника. Отходя, солдаты слышали трескотню немецких автоматов, рев прорвавшегося танка, хлесткие удары ПТР и взрывы противотанковых гранат. Потом все стихло.
Вскоре рота влилась в свой полк. И хотя потери были велики, операцию признали успешно выполненной. Должно быть, это и в самом деле было так, потому что немцы дальше не пошли.
О судьбе стрелков, оставшихся в заслоне, — трех бойцов и командира — никто ничего не знал. Все были уверены, что их нет в живых. Но погибли только трое. А четвертый…
Он лежал на мокром песке у кромки берега, и волны с тихим шелестом плескались вокруг него. Они касались его рук, лица. Они глухо и встревоженно шептались. Было в их шепоте что-то враждебное.
Он подтянулся чуть повыше на сухой песок и осмотрелся. Он был один. Только он, вода да узкий, песчано-каменистый остров — ничейная земля.
Над островом дрожали звезды и стертой серебряной монетой катилась полная луна. Запутавшись в обрывках облаков, похожих на клочья шерсти, она темнела, будто покрывалась копотью, и вдруг выкатывалась, блестящая и яркая, точно ее песком начистили. И тогда он ясно видел за крутой излучиной горбатый деревянный мост, перехвативший реку от берега до берега. Разбитый, обгоревший, низко навис он над рекой, но все-таки держался.
И оттого, что он все еще держался, стало легче, но не затухало ощущение вины и смутной неосознанной беды.
«Какая там еще беда? Довольно и того, что я едва не утонул в этой гнилой речонке…» — слабо запротестовал в нем кто-то жалкий и замученный. — Нет-нет, не виноват я, ни в чем не виноват…»
Но ощущение вины томило и отдавалось в сердце такой щемящей болью, что он невольно прикоснулся к груди ладонью. Сердце размеренно стучало, и пальцы чувствовали тихое тепло.
«Что бы там ни было, а я живой…»
Но в это время он вспомнил о товарищах. Они остались на мосту. Все трое. И Колокольцев, и Патаракин, и Коробов.
— Простите, братцы… — простонал он.
Они молчали. Они были неживые. Но ему казалось, что они кричат:
— Нет! Нет! Нет! Ты похитил наши жизни! Ты предал нас!
«Неправда, я никого не предавал. Я только… Я не успел…»
Он дотянулся до воды, ополоснул лицо, потер мокрой ладонью лоб, стараясь вспомнить, почему они погибли. Да, он промедлил. Секунду. Всего одну секунду. И в это время «тигр» подмял их под себя. Всех, кроме него. Сквозь грохот траков он услышал хруст костей и крик. А потом взрыв. Все это было до того жутко, что он выронил гранату и упал через перила в воду.
— Простите, братцы… — повторил он. — Я ведь не хотел…
Они молчали. Они были далеко. Но ему казалось, что товарищи кричат:
— Довольно покаяний! Если ты и в самом деле не предатель, иди добей тот «тигр». Слышишь, это он строчит по нашим с моста.
«Да, да, я слышу, но… — Он зашевелился, ощупывая пояс, — у меня нет оружия и… сил».