Как ответственный работник культуры я имел право на одну электрическую лампочку. Это тоже было признаком нормализации жизни. Кое-где появилось электрическое освещение. Моя лампочка кочевала из квартиры в квартиру в зависимости от того, где отмечали день рождения, венчание, где оплакивали смерть или дежурили у постели тяжелобольного. Лампочка была настоящим чудом.
В тот год сгорело здание театра. Горела Волга. Да, это была пора пожаров. Год пожаров. Похоже, что пожары преследовали меня всю жизнь. С детства. И Женю я узнал во время пожара…
Ее огромные, разочарованные глаза при встрече с моей семьей. После моего окончательного решения. После торжественного обета вернуться. Родина. Огромные, разочарованные глаза Жени. В доме отца Михала для нее нет места. Веду ее к Ларисе. Женя широко раскрывает глаза, малышка тянет меня за руку. Я забываю о них. Я забываю обо всем. С меня хватит, я больше ни на что не способен. Дайте мне выспаться. Я хочу немножко покоя. Нет, погоди, расскажи…
— Пойду повидаюсь с отцом. Мне надо поговорить с отцом.
— Разве ты с ним не виделся?
— Мы не могли поговорить.
А когда, вернувшись, я собрался без каких-либо объяснений отправиться спать, кто-то спросил:
— А что с вами делали большевики?
Мое счастье, что я упал в обморок. Это случилось впервые в жизни. Только тогда они наконец поняли, что я смертельно устал.
Занавес опустился. Я стоял, окруженный знакомыми и незнакомыми людьми, и внимательно смотрел на него из зрительного зала. И вдруг что-то произошло. Я знал, что это случится. Потому-то я так напряженно впивался глазами в занавес, скользил взглядом по его обтертым краям на середине, где он открывался. Но он не раздвинулся, а только отогнулся, пропустив узкую крестьянскую телегу, которую волокла тощая лошаденка. Я сразу ее узнал. Это была та лошаденка, которая испугалась верблюда и понесла на улицах Саратова. Лошаденка тянула телегу через пустую оркестровую яму, ловко перетащила ее через барьер и направилась дальше в зрительный зал по спинкам кресел, а за ней раскачивалась и тарахтела телега. На телеге подпрыгивал гроб, показавшийся мне каким-то маленьким, но ведь люди уменьшаются, когда умирают. В гробу я увидел свою голову, она подпрыгивала вверх и падала на твердые еловые доски, подпрыгивала и падала, подпрыгивала и падала. Мне стало невыносимо больно.
Задние колеса с грохотом соскочили со спинок последнего ряда кресел. Я схватился за голову. Лошаденка тоже качалась, очевидно с трудом держась на ногах, и с каждым шагом все боязливее и медленнее тащила телегу к выходу…
12
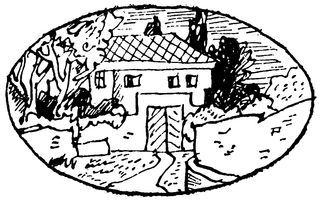
Вижу почтальона, спешащего к моему дому, а из-за угла появляются второй, третий, все бегут в одном направлении, четвертый, пятый, перегоняют друг друга, толкаются, вот их уже целая, толпа — кто первый? Наконец одному удается вырваться вперед, он врывается в калитку, перепрыгивает через четыре ступеньки, ноги длинные, за ним выстраивается целая вереница, она заворачивает за угол и тянется до кондитерской, в руках у каждого письмо, его письмо, его письмо!
Представьте, что многие годы вам снится один и тот же сон. Ведь это все равно что каждый день получать анонимные письма или телеграммы с угрозами, которые в конце концов способны довести вас до сумасшествия.
Каждый день я ждала его письма. Я была уверена, что он их пишет, пишет и отсылает, однажды придет целая связка писем, почтальон не сможет их затолкать в почтовый ящик, позвонит и будет ждать за дверью с многозначительной улыбкой на лице, и сам обрадованный их количеством. Ведь сколько раз я его спрашивала: есть ли мне что-нибудь?
Я представляла себе конверт, исписанный его мелким почерком, адрес длинный-предлинный, как это принято в России, прямо целая повесть, да и то сказать, раз это так далеко, многое надо указать на конверте, чтобы почта не ошиблась… Вот оно у меня в руках, это долгожданное письмо! Разрываю конверт, а в нем засохший цветок, точно такой, какие я собирала для гербария в то время, когда мы вдвоем гуляли по лугам. И в России он часто приносил мне какой-нибудь цветок якобы для гербария. Я умела их разглаживать через промокашку, так что они сохраняли натуральные цвета, составляла из них узоры, приклеивала к бумаге, помещала под стекло, и мои картины украшали стены квартиры.
Я не получила ни одного письма. А перед тем как ему, единственному из единственных, появиться самому, выйти словно из-за темного занавеса мрачных лет на залитую светом сцену, перед тем как приехать окончательно и навсегда, он посылает телеграмму своему отцу. А с его отцом мы уже тогда не разговаривали, — и не столько из-за того, что он плохо к нам относился, не помогал, оставил нас без средств: не будь у моей матери лавчонки, мы умерли бы с голоду, у Анны и так ножки как спички, — сколько из-за его женитьбы на девице с подозрительным прошлым и дурной репутацией.
Но Яну было мало, что отец прямо с вокзала привез его к нам, в свой дом даже не пригласив, в тот же вечер, усталый, он пошел к нему: «Мы с ним почти не виделись, не поговорили, он смутился почему-то». Как будто этот старый греховодник способен смущаться! Видимо, Ян не верил, что там другая женщина, что там вообще может быть другая женщина после его матери. Но он увидел ее. Увидел все. Старик выставил его из дома, который построили ему сыновья. Ян вернулся бледный, удрученный.
— Ну, как? — спросила я.
Он, не ответив, хотел пройти в комнату, но упал в обморок. Мы быстро привели его в чувство и уложили в постель. Он заснул мертвым сном. Я ощупывала его, прислушивалась к дыханию. Он спал. Действительно спал. Это невероятно. И те спали, Женя и Любочка. Только моя семья была на ногах, мы держали совет. Что же будет? Кто эти две женщины, маленькая и большая? Нашего языка они не знают. Что Ян намеревается делать? Анну прогнали спать. Она была возбуждена: отец на нее почти не взглянул.
Откуда Яну знать, что после его бегства мы очень быстро переселились к моим родителям. Естественно, что он ужаснулся, найдя нас у моей матери. Там — вилла, деньги, сад, фрукты, накопления в банке. У матери же — маленькая квартирка, заставленная, темная, с окнами во двор.
Анна после его отъезда какое-то время ходила к дедушке и бабушке. Но после того случая с яблоками я перестала ее туда пускать.
Ведь он мог, как все мы, остаться в четырнадцатом году дома, и что выпало на долю всех, пусть бы выпало и ему. Но во всем виноват этот дьявол. Его брат. Михал. Если бы не он, Ян сделался бы известным пианистом. Пользовался бы европейской известностью. Мировой. Был бы солистом, а не аккомпаниатором. Но Михалу Ян был необходим, шагу не мог сделать без него. Где бы Ян ни учился, он всюду был первым. В гимназии ему не было равных. Гимназические преподаватели приходили во время войны и расспрашивали про него. Этот мальчик, говорили они, создан для изучения классических языков. Он вот-вот бы заговорил по-латински, если бы его не перетащили в эту музыку. Не дали даже закончить низшую ступень гимназии. Спешили. Как же, Михал через три года получит в Праге диплом! Надо и Яну. Пусть хоть по классу органа, аккомпанировать Михалу он и так умеет. С детства этим занимается.
Но обаянием обладал тот, второй. Можно ли жить одним обаянием? Мы обязаны были во всем слушать Михала, всегда и всюду, заботиться о его друзьях, принимать в доме его обожательниц и приятельниц, каждый месяц новых, даже их родственников, потому что вместе с новой симпатией он всегда приволакивал кучу ее родственников и знакомых. Все обязаны были знать, кто сейчас его подопечная. Был ли он способен любить? По нему сходили с ума.
Всю жизнь жить в тени человека, который меня бросил!
Он считал, что поступил необычайно благородно, выдав меня замуж за своего брата.
Если Ян бежал от войны, поскольку так решил Михал, нужно было бежать всем. Не получили бы документов? Возможно. Не пропустили бы через границу? Возможно.