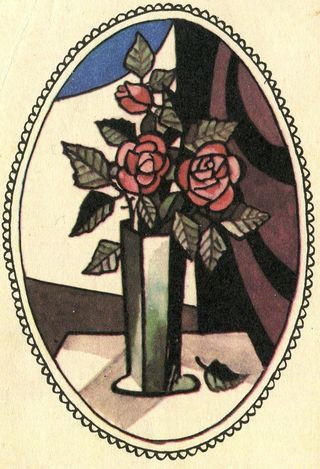Мне жаль Орлова.
У него не было минуты передышки, чтобы одарить кого-то чашей сладкого или горького напитка из неисчерпаемых богатств своей души. Все его жизненные, силы, все его чувства, нервы, духовные порывы, каждая клеточка его тела, — все было подчинено чужому гению, и он, как всякий добросовестный служака или мастеровой, как девяносто девять процентов людей, ушел в могилу, унося с собой свои тайные миры, пропасти, сны, прозрения.
Он скрывал себя и от нас. Вынудил друзей прервать турне по Греции, чтобы поехать в Швейцарию, ему, видите ли, необходимо видеть густую и сочную траву, которую так вкусно жуют коровы. Они лишь пересекли границу, как в результате страшного землетрясения вилла, в которой они жили, развалилась на две половины. Он сердился, когда ему напоминали об этом.
«Чистая случайность. Чистая случайность!» — говорил он, явно нервничая, порывисто вставал и резко менял тему разговора, не заботясь о соблюдении приличий.
Несколько дней тому назад я поехал в деревню. Дни стояли короткие, в половине шестого уже темнело. Время от времени я взглядывал в окно вагона, но ничего не было видно. И вдруг я увидел три стертые ступени крыльца маленького дома, освещенные висевшей на проволоке и раскачивающейся на ветру лампочкой. На крыльце узкая дверь, а в стене — единственное светящееся окно. Поезд почему-то в этом месте замедлил движение, и я успел заметить, что окно разделено на четыре части и поэтому кажется еще меньше. Поезд ускорил ход. Я подумал: если бы эту картину я мог увезти с собой и навеки сохранить, как бы мне хотелось иметь ее вечно при себе, неизменную, такую же, как сейчас! Но как поздно осознаешь неповторимость и бесценность таких вещей.
Я говорю сейчас не о Шопене. Говорю о людях. Мы прошли через бесчисленные возможности, а уходим с нерастраченными силами, безвозвратно унося с собой в тайниках души невиданные богатства, проникнуть в которые никому не удалось, как в сейфы с закрытым шифром.
Стоит фортепьяно, отполированное фланелью, как черное зеркало, уродливые подмостки под ним публика не видит, как не видит она и пустоту на стуле перед его широко раскрытой пастью; публика не знает, что присутствует на представлении, заимствованном из «черного» романа, из фильма кошмаров и ужасов, потому что фортепьяно само исполняет тысячу раз сыгранного Шопена, а Орлов, смятый, в залитом потом фраке, лежит под подмостками в ужасе, страхе, обессиленный, испытывая одно желание — исчезнуть.
19

От усталости ему казалось, что он окружен миллионами закономерностей, которые ускользают от его сознания, принимая облик анархии и беспорядка. Миллионы возможностей, вариантов, безумств, эксцессов. И все это пронизано какой-то привычной гармонией, которая поражает нас и в маргаритке, и в периодической смене единиц времени, и в синей загадочности вечернего неба.
Он слышал глубокий альт Жени, говорившей ему когда-то: «У тебя была настоящая, большая любовь?»
Мимо дома проходил трамвай со звоном и скрежетом. Вопрос повисал в воздухе, а Ян смотрел прямо перед собой, не намереваясь отвечать. Ведь и тогда он не смог ей ответить. То, что ему хотелось сказать, трудно было выразить словами.
Но сегодня он нашел ответ. Ясный, определенный и однозначный. Пусть и с многолетним опозданием. «Я бы сказал ей, — думал он, — важнее всего для меня хорошо играть и других учить тому же.
Мое призвание: музыка, она заключает в себе самые широкие возможности для человеческого общения».
Вспомнилась ему история о том, как цыгане околдовали волков. Рассказал ее высокий, кряжистый серб-горец. С тех пор прошло много лет, может, двадцать, а может, и тридцать, да и какое это имеет значение, когда произошло это невероятное событие? Помнится, он приезжал в Чачак, в среднюю музыкальную школу, в составе какой-то комиссии, и этот горец по вечерам забавлял их своими бесконечными рассказами.
— Было мне тогда одиннадцать лет, — рассказывал он. — Как-то возвращались со свадьбы из соседнего села цыгане. А снегу навалило по колено, идти трудно, устали они и замерзли. Видно испугавшись, что не перебраться им через гору по такому морозу и снегу, они завернули в наш овечий загон. Забрались в самую гущу овец, они их греют, над головой крыша. Ну, думают, теперь не замерзнут. Как вдруг в загон прыгнуло три волка. Паника охватила овец. И тут самый старый цыган схватил скрипку и давай играть. Сообразили и остальные. Один взялся за контрабас, другой — за аккордеон. Проснулся я, слышу музыку. Разбудил отца, «Тятя, говорю, наши овцы заиграли». «Что ты, сынок, — успокаивает он меня, — спи». «Нет, тятя, — твержу я, — овцы играют». Он встал, прислушался, взял в руки вилы, велел мне обуть сапоги и одеться. Укутались мы и вышли в ночь. Музыка была слышна еле-еле, но ясно, откуда она доносилась. Ну и картину мы застали, когда добрались до загона: три костлявых волка со вздыбленной шерстью в оцепенении стояли перед цыганами, игравшими на своих инструментах. Отец хрястнул одного волка вилами и повалил его, два других перепрыгнули через ограду и исчезли в ночи. Все овцы были целы, и только цыгане аж позеленели от страха.
Мы смеялись над рассказом горца. «Музыка превыше всего», — с гордостью произнес кто-то. Непомуцкий так и не мог вспомнить, кто это сказал.
Женю от него отделяют тысячи километров. А ответ на ее вопрос не так уж важен, чтобы посылать его за тридевять земель.
— Я думаю, Женя, самое важное хорошо играть и других учить тому же.