коня.
Пока же Татьяна лишь интуитивно догадывается, что это именно к ним в
усадьбу направляется всадник, что этот всадник — Евгений. Пушкин его не
показывает, он дает лишь некоторое подтверждение в «звуковом наезде»:
«Вот ближе! скачут...»
И наконец, первое безусловное изображение: «...и на двор Евгений!..» — все
подтвердилось! Двор можно снять общим планом, из сеней, так, как именно
и видит его Татьяна. О том, что она не в комнатах, говорит следующая строка:
«Татьяна прыг в другие сени...», то есть те, которые ведут в сад, на задний
двор.
Все прежнее мы видели глазами Татьяны. Теперь же — «Ах!» — и легче
тени Татьяна прыг в другие сени...» — киноаппарат со стороны следит за
Татьяной. Снимая этот прыжок, мгновенный и легкий, киноаппарат может
оставаться тут же, в сенях. Что касается междометия «Ах!», то не обязательно
считать, что это восклицание Татьяны,— это снова передача ее состояния, но
сжатое, как порыв, на котором она выбегает из одних сеней в другие.
Всего четыре строки... Вариант, который предложен здесь, может быть
оспорен любым режиссером, монтажером, оператором. Но почему при
способности вести монтаж вслед за писателем литература так сопротивляется
переводу на экран? Почему пристальное внимание к словам, желание увидеть так,
как видел и понимал писатель, все равно приводят к тому, что прозу нельзя
механически перенести в кино? Почему никакие технические
усовершенствования кинематографии не дают ответа на те вопросы, которые — помните? —
мучили в двадцатые годы Григория Козинцева, когда он взялся инсценировать
«Шинель» Гоголя: как передать на экране стремительность его прозы и
резкость столкновения зрительных образов?.. Но мы никак не можем ставить
неудачи только в вину монтажу. Не будь его — вообще не было бы речи о том, что
литература способна найти хоть какое-то равноценное отражение на экране.
Ведь монтаж обеспечивает не только соотношение глаза с предметом, он
организует темп и ритм повествования. Чем неожиданнее стык одного куска
пленки с другим, тем больше у зрителя ощущение резкости, неожиданности
перехода. Чем короче, тем больше ощущение скорости действия.
Представьте себе: по телевизору показывают раунд боксерского боя. Он
длится три минуты. После этого вы сразу переключаете канал: показывают
отрывок из фильма, в котором, сидя за столом, ведут неторопливую беседу два
человека. Через три минуты вы выключаете телевизор. Какой из отрывков
покажется вам короче? Не сомневаюсь, что боксерская схватка. И дело не
только в том, что спортсмены быстро наносили удары, а собеседники медленно
разговаривали. Впечатление короткого и длинного вызвано еще и тем, что
камеры, установленные вокруг ринга, то и дело подавали на экран то крупные,
то общие планы, отмечали меткие удары и мгновенно перебрасывались от
одного спортсмена к другому. А во втором эпизоде камера, не двигаясь,
держала в поле зрения разговаривающих людей.
А можно ли снять фильм без единой склейки? Да, но при условии, что этот
фильм должен соблюдать одно правило — единство места действия. Как
только герою картины потребуется, например, переехать из одного города в
другой, тут же придется разрезать пленку.
Французский режиссер Ален Рене в 1958 году снял короткометражную
картину «Национальная библиотека». Там это условие было выдержано.
В течение двадцати минут кинокамера без остановки медленно двигалась
вдоль полок с книгами, восхищаясь богатством, накопленным человеческой
культурой.
История кино знает и еще один подобный случай. Правда, до экрана тогда
дело не дошло: режиссер понял несостоятельность своего замысла. Режиссером
этим был Всеволод Эмильевич Мейерхольд, один из революционеров русской
театральной сцены начала века. А фильм «Портрет Дориана Грея»,
экранизация романа Оскара Уайльда, был первым опытом Мейерхольда в кино.
Оператор фильма Александр Левицкий, уже достаточно опытный к 1915
году, снявший даже «Войну и мир», был поражен тщательностью режиссерских
разработок Мейерхольда,— она напоминала ему музыкальную партитуру, где
было учтено абсолютно все и все было совершенно и гармонично. Одно только
огорчило оператора: в большой по времени сцене не был предусмотрен
монтаж. Мейерхольд хотел снимать одним куском и обойтись даже без титров!
Левицкий попытался объяснить режиссеру неоправданный риск, который к
хорошим результатам не приведет. Мейерхольд настаивал на своем. Оператор
подчинился. На репетициях все шло прекрасно. Великолепно играли актеры,
особенно хорош был лорд Генри в исполнении Мейерхольда. При просмотре же
отснятого материала Всеволод Эмильевич признал свое поражение в кино: сцена
выглядела чересчур длинной, монотонной и непонятной. А ведь главным для
него был тот смысл, который содержался в монологах героев. Конечно, тут
можно было бы прибегнуть к спасительному средству: разрезать эпизод,
вставив в него титры-надписи. Но Мейерхольд понял, что
кинематографичное™ всему эпизоду эта механическая «мера спасения» отнюдь не
прибавила бы.
«Кино имеет свои законы»,—констатировал театральный режиссер
Мейерхольд. Этим законам ему пришлось обучаться на практике.
Что было дальше? Всеволод Эмильевич попросил повторить просмотр
сцены, после чего сделал новую режиссерскую разработку, ничем не похожую на
предыдущую. Сняли все заново — с крупными и общими планами, с
монтажными переходами, изменившими темп всей сцены. Интересно, что в первом
варианте (том самом — без надписей) было пятьсот тридцать метров пленки.
Во втором — уже с титрами — всего двести. Все последующие эпизоды своего
фильма Мейерхольд снимал, опираясь на новые для него кинематографические
законы.
Такова сила монтажа.
Все, что происходит на киноплощадке во время съемок, а до того — в
спорах за столом, все, что было в тонателье, где композитор добивался от оркестра
необходимого ему звучания,—все это называется «делать фильм». Но
сделанным он считается только после монтажа.
И занимается монтажом один человек — режиссер.

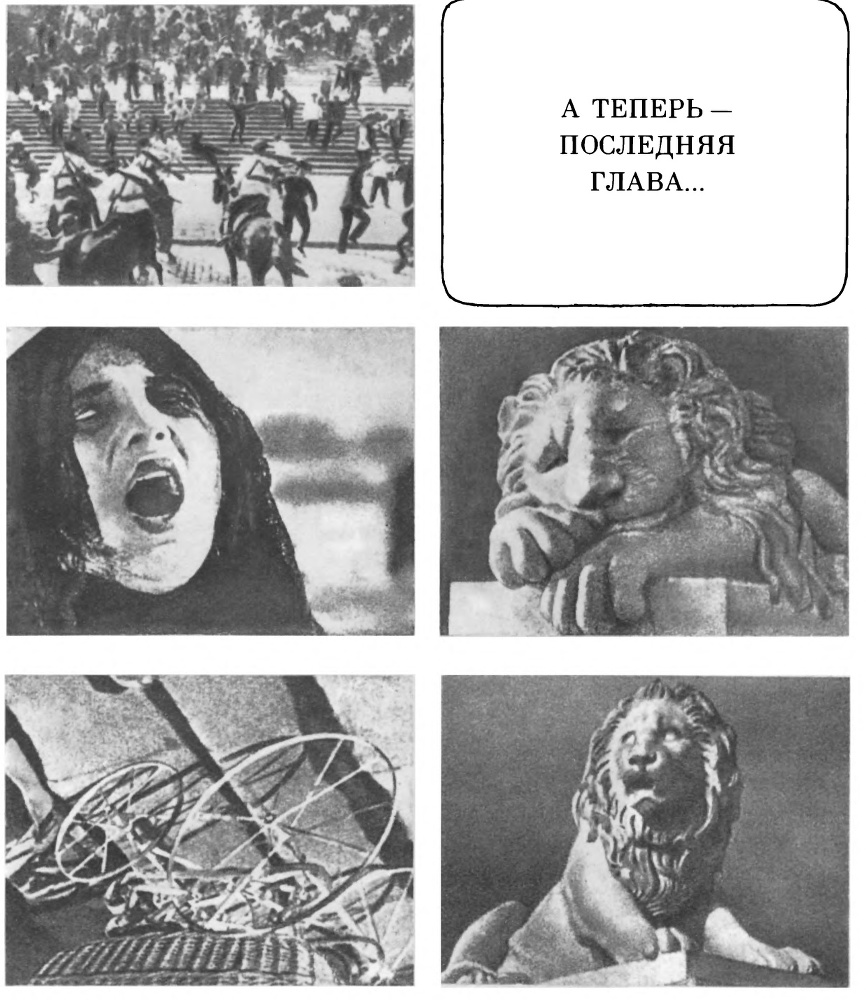
7
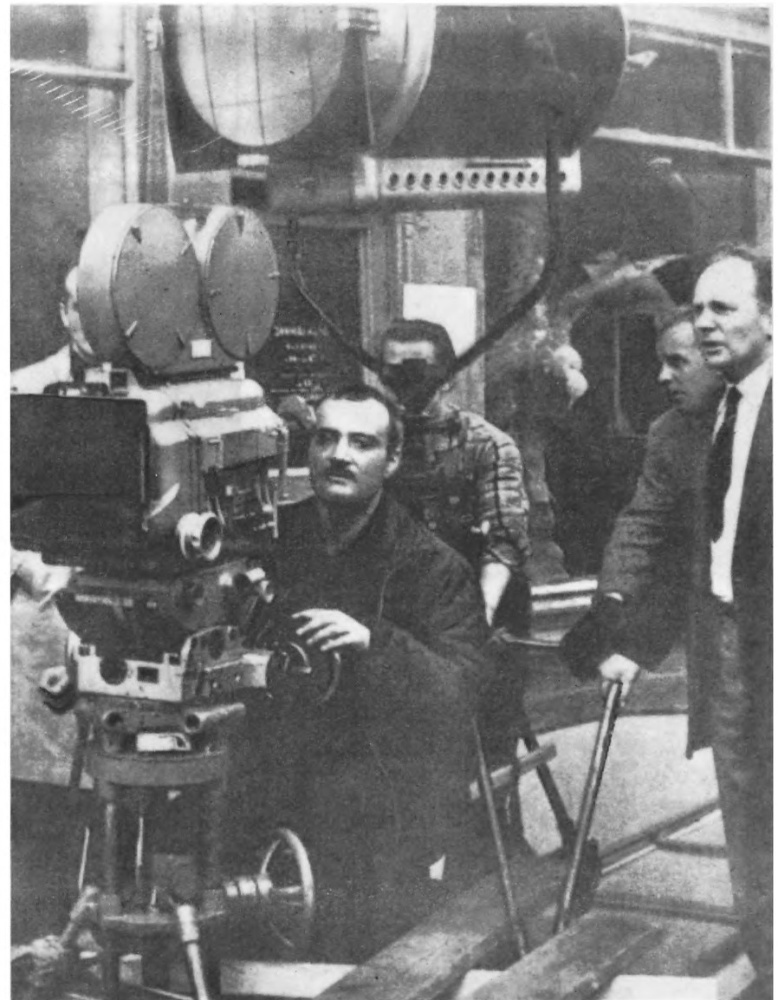
ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ
с
РЕЖИССЕРОМ
А ТЕПЕРЬ - ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА...
Машинное искусство»! Произведение, изготовленное
«фабричным способом»! Ах, сколько было страхов, когда оно
появилось: слишком уж необычным казалось
вмешательство техники в искусство. Она спутала карты, человек
кино виделся лишь приложением к машине, потому что
на творчество его работа ничем не была похожа.
Но вслед за кинематографом двадцатый век ввел в обиход
звукозапись, радио, потом телевидение. И страх перед
машинами постепенно таял. Вреда старому искусству техника не принесла,
напротив: разве не должен был, например, театр испытывать чувство
благодарности кинематографу хотя бы за то, что мир спектакля, а заодно и игра
знаменитых актеров оставались на пленке для потомков.
Актеры и режиссеры, первыми пришедшие в кино, по праву изначально
считали лишь себя людьми творческими и не хотели признавать соавтором
человека, который ничего не может сделать без химических и математических
формул.