1. Чиновник особых поручений
В Оренбург В.И. Даль приехал летом 1833 г. и сразу получил первое серьезное поручение. В распоряжении Перовского, подписанном 17 августа, значилось: “Предполагая употребить Вас по разным делам внутри вверенного мне края и желая, чтобы Вы не упускали случая ознакомиться со всеми подробностями и наипаче местностями его, предлагаю Вам... отправиться на первый раз в землю уральских казаков”[1 ГАОО, ф. 6, оп. 15, л. 1,7.]. Одновременно управляющий уральским казачьим войском полковник Покотилов получил приказ распорядиться в отношении Даля, “чтобы в пределах войска уральского было оказываемо ему в потребных случаях законное пособие и чтобы все требуемые им сведения доставлялись без промедления”[2 Там же, л. 1 об.].
Из архивных документов мы узнаем, что командировка длилась не менее месяца. В рапорте от 21 сентября Даль докладывал военному губернатору: “Объехав по предложению Вашего превосходительства войско уральское и имев уже честь отдать Вам лично отчет 0 сей поездке, осмеливаюсь просить покорнейше, дабы следующие мне казенные прогонные деньги за проезд от Оренбурга через Уральск до Гурьева, обратно до крепости Калмыковой, от оной до орды Букеевской, обратно по Узеням на Александров Гай... в Уральск и, наконец, степною дорогою через Илецкий Городок в Оренбург, всего за 2050 верст на три лошади, то есть 307 рублей и 60 копеек, - повелено было отколе следует мне выдать”[3 Там же, л. 2.].
По возвращении из командировки Даль встретился с А.С. Пушкиным, который - “нежданный и нечаянный” - приехал в Оренбург 18 сентября, а уехал оттуда 20 сентября, и, как известно, они практически не расставались [203, 338, 371, 383, 403 и др.].
В эти дни В.И. Даль был переполнен впечатлениями от поездки по землям уральского войска, которыми поделился с издателем петербургской газеты “Северная пчела” Н.И. Гречем в письме, датированном 25 сентября. Эта “Корреспонденция” была опубликована за подписью Казака Луганского И октября 1833 г. и с тех пор никогда не перепечатывалась. В ней есть примечательные слова об Оренбургском крае и об уральском казачестве. В частности, В.И. Даль пишет: “Уехав из Питера и не простившись даже с Вами, хотел я писать Вам немедленно по прибытии моем в Оренбург, день за днем, и вот уже прошло двенадцать недель со дня отбытия моего из столицы, когда судьба привезла меня... в Уральск. Если вообще край здешний представляет смесь необыкновенного, странного, многообразного, хотя еще дикого, то Уральское войско и заповедный быт его, столь мало известный, заслуживает внимания и удивления.
Край Оренбургский для нас важнее и значительнее, чем многие думают; едва ли Кавказ со всеми причудами своими может обещать то, что заповедает восточный склон хребта Уральского, Общего Сырта и прилежащие к Уралу степи. Не говоря о том, что Башкирия, т.е. Оренбургская губерния, красуется природою, какой нет более нигде в России, ниже о неисчерпаемых богатствах золотоносного Миаса и множества ему подобных ручейков, несущих из недр кремнистых гор веками в песок истертые золотые жилы окаменевших исполинов, - хочу намекнуть только на предстоящей торговле нашей огромный переворот чрез непосредственные сношения и связи с Южною Азией, и если это сбудется, то нет, кажется, сомнения, что мы достигнем цели сей не чрез Кавказ, даже едва ли чрез Астрахань и Каспийское море, но чрез Киргиз-Кайсацкие степи”.
С переездом в Оренбург для В.И. Даля началась новая жизнь. Его обязанности касались управления огромным Оренбургским краем, разнообразным по природным условиям, населенным разноязычными народами, из которых каждый придерживался своих верований, обычаев, имел свой жизненный уклад. Далю предстояло изучить этот край, понять местных людей, найти с ними общий язык. Новое дело, за которое он взялся с присущей ему обязательностью, значительно расширило круг его практических и научных познаний, а общение с представителями различных народностей давало богатую пищу творческой фантазии писателя. Особенно радовала Даля возможность познакомиться с неизвестными ему наречиями русского языка и пополнить уже немалое собрание слов новыми оборотами речи, пословицами, поговорками.

В.А. Перовский (1837 г.)
Архивные документы и воспоминания современников позволяют нам увидеть Оренбург глазами Даля, составить представление о его новых знакомых, о событиях первого года службы на новом месте.
Оренбург, построенный на реке Урал в XVIII в. как город-крепость, стоял на страже юго-восточных границ государства и был главным центром дипломатического и торгового общения России со среднеазиатскими ханствами. Под управлением военного губернатора находились не только Южный Урал и земли уральского казачьего войска, но и киргизская (казахская) степь Оренбургского ведомства, по которой в Оренбург и пограничные Орскую и Троицкую крепости шли торговые пути из Бухары, Хивы и Коканда. Казахи, уже сто лет назад принявшие российское подданство, доставляли тем не менее много хлопот непрерывными междоусобицами и неустойчивыми отношениями с враждебным России Хивинским ханством.
Хивинцы не только мешали международной торговле, постоянно нападая на караваны, но всячески поощряли захват в плен русских подданных, которых затем продавали в рабство на невольничьих рынках Хивы и Бухары. Как видно из материалов, хранящихся в ГАОО, русские власти вели непрерывную борьбу с этим злом. Все случаи похищения строго учитывались, собирались сведения о дальнейшей судьбе пленников, казна отпускала специальные средства для их выкупа, но, как правило, выкуп не удавался и в 30-е гг. XIX в. сотни русских людей находились в рабстве в среднеазиатских ханствах и не имели надежды вернуться на родину.
Все эти обстоятельства определяли полуторговый-полувоенный облик города и характер его населения. Власть осуществляли военный губернатор, он же командующий отдельным Оренбургским корпусом, и подчиненные ему военные и гражданские чиновники, назначавшиеся в столице. Важную роль играли Оренбургская пограничная комиссия, ведавшая делами степных соседей, и таможня. Оренбургский гражданский губернатор и его канцелярия находились в Уфе.
О внешнем облике города того времени можно составить представление по описанию, которое дал хорошо его знавший известный геолог Г.П. Гельмерсен (1803-1885). Он писал: “Оренбург, как известно, - это единственная настоящая крепость на русско-азиатской границе от Каспийского моря до Иртыша. Все остальные так называемые крепости не имеют совсем или имеют только легкие полевые укрепления. Поэтому Оренбург один смог противостоять атакам неистового Пугачева, который обстреливал город с церковной колокольни, которая находится восточнее в казачьем Форштадте.
Стены крепости возведены большей частью из того же красного песчаного камня, на котором расположен город, и имеют четверо ворот; на востоке - Орские, на севере - Сакмарские, на северо-западе - Чернореченские и на западе - Водяные ворота. Против первых и третьих из этих ворот на небольшом расстоянии расположены два предместья, некоторые казенные постройки и несколько загородных домов высокопоставленных жителей. Улицы широкие, прямые и пересекаются под прямыми углами.
Дома, за немногими исключениями, одноэтажные и большей частью из дерева. Многие значительные казенные постройки, как гарнизонные казармы, жилища некоторых военных начальников, Неплюевское училище, и один-два частных дома построены из камня и имеют два этажа. В центре города находится просторная четырехугольная площадь, на которой проводятся смотры гарнизона. С трех сторон она окружена большими каменными строениями, среди которых просторный манеж; но на четвертой стороне видны убогие деревянные хижины, в которых живут бедные татары, что составляет резкий контраст...
В Оренбурге насчитывается пять русско-греческих церквей, одна протестантская, временная католическая и одна мечеть. Шестая греческая церковь расположена в так называемом казачьем Форштадте, перед Орскими воротами, и приобрела историческое значение, о чем я упомянул выше. Одна из этих церквей, которая находится в большом торговом дворе (Gostinoi dworr), построена в благородном стиле, хотя очень проста. При ближайшем рассмотрении знаток увидит, что отношения, которые даны отдельным ее частям, очень хорошо продуманы и расположены со вкусом. Две другие церкви очень подчиненной архитектурной ценности стоят на высоком берегу Урала и поэтому служат жителям степи как маяки мореплавателям.
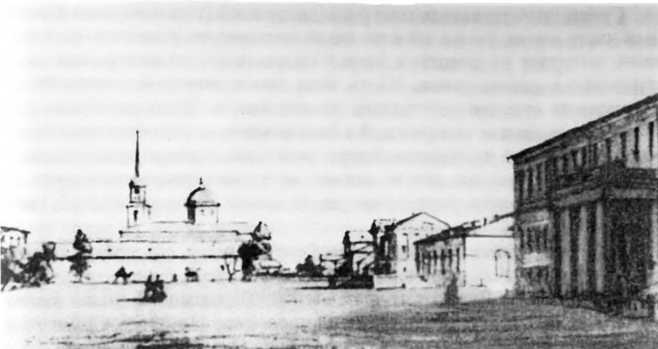
Площадь в Оренбурге. Рисунок художника А. Чернышова (1840-е годы)
Среди значительных построек заслуживает упоминания Гостиный двор, очень большой каменный четырехугольник с двумя входами, которые от внешней слепой стены ведут во внутреннее пространство к рядам лавок. Часть этих лавок занята исключительно бухарскими купцами и отделена от остальных. Здесь сидит со скрещенными ногами и завернутый в белую мантию равнодушный бухарец в окружении продуктов своего отечества и уделяет покупателю столь мало внимания, что не встает, не приветствует его и даже на вопрос о цене едва дает ответ на ломаном русском языке” [445, с. 150-153].
В.А. Перовский приехал в Оренбург со своей, как теперь принято говорить, “командой”, в которую, помимо В.И. Даля, входили камер-юнкер Н.Н. Дурасов и И.В. Лебедев, последний занял должность секретаря губернаторской канцелярии. Но здесь Перовский встретил и многих опытных местных чиновников, они стали его помощниками и единомышленниками. Среди них, например, были образованные военные топографы полковник Г.Ф. Гене, инженер-капитаны К.Д. Артюхов и К.М. Тафаев, оберквартирмейстер А.А. Жемчужников и поручик Н.В. Балкашин, управляющий канцелярией военного губернатора майор А.И. Середа и другие.