Иван присел на краешек скамейки, пощупал гладкую кожу куртки.
— Вот, куртку на «молниях» подарить собирается, родная-то мать, — как-то странно сказал он, словно новые эти вещи на нем надеты временно, как совсем чужие и ни по какому праву ему не принадлежащие. — Куртку да часы вот. «Звезда» называются или «кирпичики».
Старухи пошевелились.
— Жить к себе зовет, — кашлянув, продолжал Иван. — «Иди, говорит, стыдно тебе за меня не будет»…
Старухи ничего не ответили, и Иван напрягся, пытаясь выделить голоса. Но тут отец враз умолк — будто с каким-то умыслом, — и последние слова песни неуверенно вывел надтреснутый голос Анны Осиповны, отчего-то вдруг по слышимости такой далекий, будто истончившийся в печали потерянный счет кукушки.
Иван встал и пошел на пустырь, где два часа назад он гонял мяч. Эта недавняя его беззаботность поразила сейчас Ивана. Он сел на утоптанную траву и стал глядеть на вызвездившийся к ночи небосвод. На запястье непривычно ощущался кожаный ремешок, часы тоненько постукивали. Что-то древнее и прекрасное пробуждалось в высокой теплой ночи. Иван чувствовал, что и с ним происходит какая-то перемена, — словно неявная глухая боль по несбывшемуся детству куролесила, теснилась у него в душе, чтобы избыть себя раз и навсегда и уже к нему не возвращаться.
1968
БЕЛАЯ ДУША

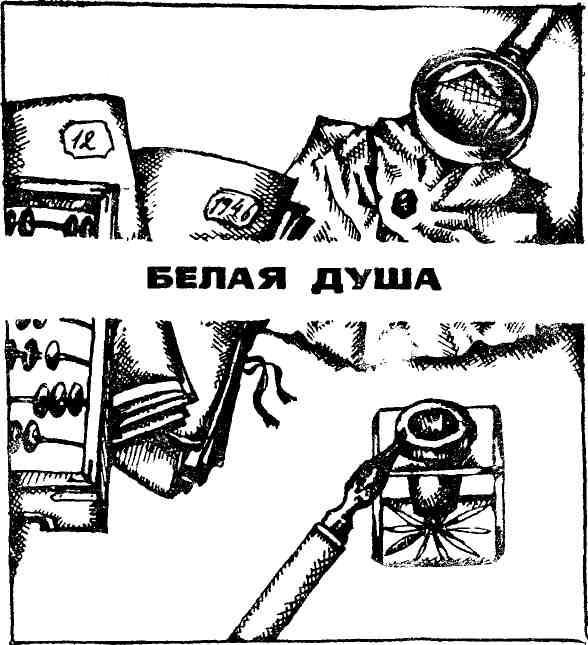
До войны он работал счетоводом в колхозе, жил в маткиной избе с беременной молодухой и мало думал о мире за околицей.
Война протащила по белу свету — где в полный рост, а где и ползком, зажавши голову под мышку. Незадолго до победного дня жена Феня, надорвавшись на лесозаготовке, умерла в далекой алтайской деревне, оставив ему, как писала соседская грамотная ребятня под диктовку матки-колхозницы, шестилетнего неслуха.
В дороге, а потом и дома демобилизованный солдат размышлял о разном, и ему все чаще было не по себе при мысли, что, по всей вероятности, снова придется щелкать деревянными костяшками счетов в колхозной конторе. Какой-то перемены в своей жизни хотелось Егору, смутные и гордые мысли о ненайденной лучшей доле волновали его, и он все выжидал, по нескольку раз на день оглядывая подживающие раны. Домна Аверьяновна втихомолку поплакивала, наблюдая за смурным сыном-фронтовиком, а он тут как раз вскоре возьми да и приведи из райцентра, куда ходил в военный стол становиться на учет, новую себе жену и мать для своего голопятого Степки, да и заяви старухе матери, что надумал-таки сорваться с места — подамся, мол, на прииски, знает он об одном таком по рассказу погибшего взводного, до войны работавшего геологом.
— Господи, какой тебе еще прииск, Гоша! — всплеснула руками Домна Аверьяновна. — Сам чуть живой.
— Ничего, мама, теперь оклемаюсь. Да тут и недалеко, рукой подать…
— Чего там делать-то будешь? — спрашивала старуха, не знавшая, что и подумать о таком решении сына.
У Егора горячечно поблескивали глаза.
— Минерал искать, мама. Камень такой. Мне взводный перед самой своей смертью подарил. Гляди, — и Егор, доставая из нагрудного кармана, хвастал маленькой, с горошинку, темно-вишневой крупинкой, в несколько рядов завернутой в потертую бумагу. — Он, мама, взводный-то, до войны искал этот камешек в степях за Иртышом. Пески там есть, называются Ак-Жон. А с этими песками целая легенда связана. Будто это вовсе не пески, а слезы. Ну, слезы старателей, в стародавние времена искавших там полезный минерал касситерит.
— Дался тебе минерал какой-то… Одни слезы и есть.
— Найду месторождение — будет о человеке память, — не сдавался Егор.
Старуха мать молчала. Для нее вся беда — сына на глазах лишалась, опять одной куковать, биться на старости лет. А у Егора покориться отведенной от века доле сил больше не было — неизбывно жгла, палила все нутро нестерпимым жаром зароненная в душу взводным эта задумка.
Делать нечего, наняли телегу. Нагрузили какую-никакую поклажу да сына Степку сверху, а к задку привязали нетель, выделенную старухой матерью. От неохоты уходить из родных краев бедная буренка то и дело стопорила передними ногами, вытягивая шею и выкатывая голубоватые белки, и ее всю дорогу подстегивали черемшинкой.
В райцентре, чтобы нанять машину, Егор загнал на толкучке коровенку и женину кровать с литыми головками и панцирной сеткой. Остался у них один узел с постелью, но на нем сидели в кузове, и этого узла тоже вроде как не было. На остановках Егор менял на хлеб то трофейные часы, а то и шинель с плеча, а жена Липа, поглядевшись в зеркальце, улыбалась ему и заводила патефон, который она всю дорогу держала на коленях.
И полуторка снова тарахтела, дребезжа бортами, и мельтешение грязного проселка говорило о суетности старой жизни и сулило впереди разные неоткрытые радости.
В том месте, куда их привезла машина, они разделились — Егор велел Степке идти с ним, а Липе пока оставаться — ждать покупателя на перину, свое приданое. Липа легла головой на патефон, сохранявшийся на узле, и заплакала. Они виновато потоптались возле нее и подались налегке — так, рубаха-перемываха да еще, может, что по мелочи в военном вещмешке у Егора.
Куда они шли — Степка не спрашивал. Вся жизнь, какая бы где ни была, представлялась ему одинаковой, Всюду были карточки на хлеб, и если, как говорил отец, у тебя их нет и вообще больше менять нечего — значит, дела твои швах. Семеня за отцом по стежке, выбитой у подножия растянувшихся унылым цугом пригорков, Степка загадывал, что будет за следующим поворотом. Но еще много лежало снегу по увалам, новая травка только-только пробивалась на солнцепеке, и природа вокруг казалась тоже однообразной. Отощавшие за зиму суслики сидели у своих норок, замирая от страха и любопытства при виде людей.
К вечеру от усталости и голода Степке захотелось сесть и заплакать. Но отец все шмурыгал и шмурыгал голенищами сапог, не оглядываясь, будто запамятовав, что идет не один. «Видно, тоже ись хочет», — тихонько вздохнул Степка, жалея отца и утишая этой жалостью свою обиду на его невнимание.
Егор шел молча, воображая в деталях их будущую добрую жизнь. Раза два они присаживались отдохнуть, и тогда глаза их встречались, и Егор не выдерживал, отворачивался — он все еще стеснялся своего отцовства, все никак не мог привыкнуть к тому, что у него, двадцативосьмилетнего, такой взрослый сын.
Родился парнишечка незадолго до начала войны. Только и видел его Егор люлечного. А после несчастного случая на лесопункте взяла ребенка к себе мать Домна. Вынянчила, вырастила с горем пополам. Вернулся Егор с войны — перед ним совсем незнакомый пацаненок, ростом выше пояса, в холщовой рубашке, и смотрит из-под косм пристально, по-стариковски, вроде как спрашивает: какой, мол, ты есть, отец, — добрый человек или худой? Столько теперь уже исколесили вместе, по такому времени месяц году равен, да и свой ведь парень-то, родной!.. — но так и не привык, все так же стеснялся, когда тот при Липе говорил ему «папа».
Добрый или худой? — горько задумывался порой Егор. Кто про то скажет! Чужого не берет, живет честно, — значит, не худой. Вот отец, похоже, из него неважный. Надо бы уж тогда оставить мальчонку в деревне, пусть бы еще пожил с бабушкой, пока сам на ноги не встал… да не смог устоять перед молящим его взглядом. Захотелось утешить, отогреть, доказать: добрый! Оно и доказал пока что… Чужого не брать — это еще полдела. Ты свое научись отдавать.
— Ты знаешь, сынок, — сказал Егор, едва ли не впервые обращаясь так к мальчику, — ведь вот какие чудеса бывают! К примеру, пески, по которым мы сейчас идем, называются Ак-Жон. Белая душа, значит. А песок — это вовсе и не песок будто, а — людские слезы. Дескать, каждая песчинка — это слезинка, и ветер метет-переметает их с места на место. А когда поднимается вихрь и столб словно сахарного песка встает к небу и с таким протя-ажным воем идет от холма к холму, кажется — это чья-то душа собирает свои слезы и никак не может собрать. — Егор посмотрел сыну прямо в зрачки.