В несколько прыжков Генка нагнал Любу и хотел шлепнуть ее ладонью пониже спины, но не рассчитал: Люба резко остановилась, крутнулась, толкнула его в плечо, и Генка завалился на траву. Пока он вставал хохоча, из-за дома жахнул выстрел.
— Кроля убила!.. — прошептал Генка.
Люба вышла из-за дома, держа в левой руке вытянувшуюся тушку кролика.
— Вот, ровно мужика нет на пасеке, — сказала она потрясенно взиравшей на нее Люсе, и улыбнулась, и обвела всех смеющимися, дерзкими глазами, — самой пришлось выучиться этой охоте…
Вскоре все сидели за столом, тщательно выскобленным, пахнущим сосной. Генка выставил бутылку «Особой», купленной им по случаю в сельпо. В русской глинобитной печи потрескивали дрова, в отсветах пламени Люба, снующая от шестка к столу, была похожа на гигантскую диковинную бабочку, невесть откуда залетевшую в эту тесноватую, с темными углами, старую избу. Генка перехватил взгляд Леонида Антиповича и, должно быть, мысли его угадал — сказал, улыбаясь:
— Вам супруга-то моя, дядь Лень, нравится? Я ж выкрал залетку-то, можно сказать, силком отнял! — Генкины глаза блестели исступленно, жарко, словно он еще и сейчас переживал, тот момент, полный сладострастного и жуткого томления, как перед прыжком с высоты.
— Дура была, поверила, — с усмешкой коротко взглянула Люба на мужа, — думала: в город увезет, в квартире с ванной буду жить, на машине раскатывать, а он меня на пасеку заточил!
— Нравится, нравится, Гена! — улыбнулся Леонид Антипович, и Любины щеки вновь потемнели от прилившей крови.
Теперь Генка щурился, глядя на огонь в печи и похохатывая:
— Нашла охламона: в город я ее повезу! Как же, больно надо. В городе таких пруд пруди!
Люба тут же пульнула в Генку тетеркиным крылышком, которым подметают шесток.
— Ребята-то где? — спросил Леонид Антипович, не без удовольствия наблюдая их возню.
— Да у мамки, вчера забрала в деревню. Пускай привыкает к внукам, пока их еще только двое!
— Ты, Гена, я слыхал, в городе работал? — осторожно поинтересовался Леонид Антипович, начиная издалека.
— Ну! Было дело. Шофером третьего класса, машина ГАЗ-69. Пропади оно пропадом!
— Что так? Заработки плохие? — как бы невинно удивился Леонид Антипович, а глаза его выражали удовлетворение.
— Не-а, дядь Лень, заработки там дай бог. Только что с того? Заработаешь — истратишь. Ну, отложить можно. На мотоцикл, к примеру. А дальше? Лично мне от такой жизни удовольствия никакого.
— Заливай, заливай, — как бы кротко разрешила Люба, готовившаяся ударить по Генке каким-то козырем. — Пчела на мед летит, и ты это знаешь, и просто так, сдуру, ты тоже не сидел бы целый год в городе.
— То-то и оно, что сдуру! — похлопал себя ладонью по лбу Генка и погас, хмуро следя за Любой. Видно, разговор этот у них повторялся часто, и оба они устали от него, но каждый раз возвращались к нему снова и снова. — Я, дядь Лень, — сказал Генка, поворачиваясь к столу и грузно налегая на него локтями, — чего-то вдруг задумываться стал. Это ж, думаю, елки-палки, на мне весь наш корень закончится. Дядька Михаил осел в городе прочно. Двух других моих дядьев война поубивала и батьку тоже, и одна только мамка и остается в деревне куковать свой век вместе с бабушками Анисьей и Феклой. А бабушки — что им уж осталось-то… Как ломти отрезанные. Вы ж тоже все по городам расселились… — виновато глянул он на них, как бы прося прощения за откровенность. — И вот что-то мне покоя не стало, всю свою жизнь в деревне вспоминать начал. Днями еще ничего, куда ни шло, крутишь баранку да глядишь перед собой, как бы не наехать на кого, а как ночь придет — куда и сон денется. Лежишь, в потолок глазами уставишься. Голова от мыслей опухает. Дедушка Платон перед глазами, как живой. «Ты, говорит, Гена, роевник-то мой не бросай, он, грит, удачливый, в нем и найдешь свой жизненный интерес». Ну, помучился я, помучился. «Нет, говорю, дядя Миша, видно, не судьба». Сдал свой «газон» — и пехом, пехом в деревню! А где и бегом пробежишь, — нет, точно, бежал, чего там скрытничать! — сказал Генка, как бы сознаваясь в чем-то сокровенном, и покосился на Любу. — Вот так уж на меня нашла эта дума, оседлала, можно сказать…
Леонид Антипович невидящими глазами уставился в низкое синее оконце и задумчиво улыбался чему-то. В переплет рамы одна за другой вклеились призывно мерцающие звезды, где-то заполошно ухал филин, позвякивала боталом Генкина лошадь. Вековечные тикали ходики, пел за печкой сверчок, догорали, постреливая, еловые дрова, и на всем — на столе, на стенах, на их лицах — лежал ровный отсвет теплой ночи. Лампу они так и не вздули, хорошо было и без нее, и время как бы остановилось и исчезло.
Генка выговорился, притих, и все долго сидели молча. И в этой по-древнему чуткой тишине явственно возник далеко в деревне и смолк, будто надломленный, первый петушиный крик. Генка встрепенулся.
— Дядь Лень, — изменившимся голосом сказал он, — давайте-ка спать! Че мы в самом деле полуночничаем. Стели им, Люба, а я счас мигом… Гляну пойду на коня, как бы не расстреножился…
Генка встал и, ни на кого не глядя, вышел из избы, Люба выпрямилась, напряженно застыла, вся превратившись в слух. Генкины сапоги сочно зашмурыгали по росяной траве, звук шагов удалялся стихая, и вскоре где-то у Черемуховой лощины послышалось отрывистое ржание лошади. И еще через мгновение будто ударили глухо, с дробным перестуком, копыта по мягкой пыли проселка.
— Куда это он? — спросил Леонид Антипович.
Люба откинулась к стене, и лицо ее на фоне потемневшего от времени кругляка казалось неестественно белым. Теперь только было слышно как бы нараставшее тиканье ходиков, все заполнил собой их назойливый стук, оборвавшийся ружейными выстрелами, прозвучавшими далеко дуплетом.
— Мать твою в душеньку-то… Он что, сдурел?! — Ломая спички, Леонид Антипович прижег первую за вечер папиросу.
Люба сидела, как изваянная. Снова полнилась тишиной эта ночь, и казалось, колдовскому ее безмолвию не будет конца.
— Слушайте, вы, мужчины, надо же что-то делать! — растерянно произнесла Люся. Она то внимала темноте за окном, то с испугом глядела на отрешенно замершую молодую хозяйку.
— Далась ему эта правда… — глухо и устало откликнулась Люба. — Все Митьку ловит, которую уже ночь.
Леонид Антипович, для чего-то загасив папиросу, выбрался из-за стола и, скрипя половицами, вышел на улицу. Вместе с последним часом ночи падал на землю окаянный сон. Все стояло недвижимо и немо. Даже не было никаких запахов.
Но уже смутно, словно вырастая на глазах, подступали вздыбленные Белки́, и над ломаным их окоемом опалово обозначился край неба. Полоса на глазах ширилась, оттесняя тухнувшие звезды в беспредельный купол, и снизу, над самыми снегами, мало-помалу начинало алеть.
Странное чувство было в душе Леонида Антиповича, Снова нахлынуло на него то дневное смятенное состояние, когда он словно впервые узнал для себя малую свою родину. Но теперь на это его ощущение как бы накладывалось предчувствие какой-то неясной тревоги. Он понимал, что это никак не могло быть связано с историей Геннадия — парень платил за свое временное отступничество сам, отпущенной ему мерой. Видимо, то, что вызывало тревогу Леонида Антиповича, исходило теперь только от него самого, это было неизбежным продолжением его нынешнего возвращения сюда.
1968
КУКУШКИНЫ СЛЕЗКИ
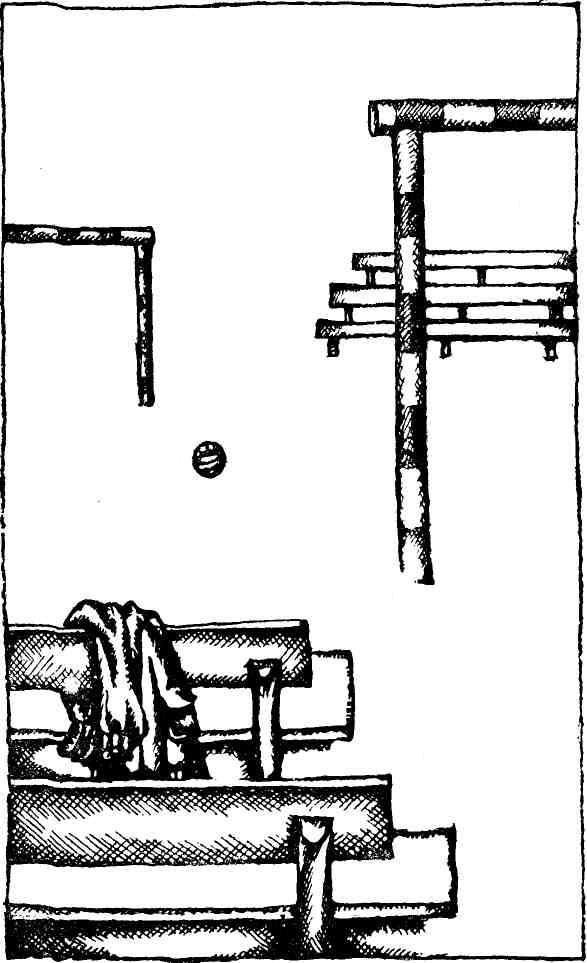

Он и думать о ней забыл, уж столько лет прошло, и давно стало выветриваться в памяти, где и когда это случилось, — и вот на тебе! Прибежал кто-то из соседской ребятни, заполошно прокричал ему: «Ванька, твоя родная матка вернулась!..» — и весь мир встал дыбом.
— Иди ты, какая еще там мать… — упавшим голосом сказал он парнишке, принесшему весть, и вместо того, чтобы пугнуть его хорошенько и вообще сказать что-нибудь крепкое, чтобы взять себя в руки и как-то скрасить незавидное свое положение, в котором он так позорно оказался на виду у приятелей, Иван слабенько катнул от себя мяч и сел прямо на землю. Потом тут же поднялся и, жалко улыбаясь, затрусил вслед за гонцом.