— На то и затон. — Он снова улыбнулся. — Зачем к нам пожаловали?
— Меня назначили капитаном на СТ-105.
— Капитаном? А сколько вам лет?
— Двадцать пять.
— Так, так… — протянул он неопределенно. — Ну что ж, давайте знакомиться. Одинцов, старший по каравану. Вы не осе́рдитесь, если я предложу вам резиновые сапоги?
Потом они долго бродили по откосу какой-то отвесной кручи. Внизу, как будто бы в провале, поблескивали огоньками еще дремавшие в затоне самоходки, и было такое ощущение, что она стоит на колокольне.
— Чудесный вид!
— Пойдемте на Венец, — предложил он. — Вот оттуда вид так вид.
Они стали подниматься по круто взбегающим ступеням лестницы. Он взял ее под руку. Минуты две шли молча. Над лестницей нависли тонкие ветки берез. Еще голые, но уже клейкие, пахучие, они касались плеч, лица. По склонам журчали быстрые ручьи, и где-то далеко внизу, не то в затоне, не то на вздувшейся реке, что-то позванивало в маленькие колокольца.
— Хорошо! — сказала она.
— Хорошо! — согласился он, и оба разом засмеялись — просто так! И вдруг утихли, пораженные красотой весенней ночи и странным, все нарастающим гулом на реке. Гул все усиливался. Что-то трещало, ломалось, распадалось с глухим нетерпеливым звоном.
— Подвижка! Извините, надо караван спасать! — вдруг закричал он и кинулся вниз по лестнице.
Внезапная подвижка льда разрушила земляную перемычку, льдом повредило два буксира, и Одинцов сделался тем страшно занятым, неуловимым старшим капитаном, которого все ищут, вокруг которого всегда народ. Дни и ночи он пропадал в затоне, и ей уже казалось, что он забыл о ней. Но нет, он не забыл. Когда стали снаряжаться в рейс на Вохму и Великанов с Крохиным не захотели «вожжаться с бабой», он настоял. Но вместо благодарности она неожиданно для самой себя наговорила ему кучу неприятных слов. Да так и пошло… Она нападала, он отбивался, и, если бы кто-нибудь сказал им, что эти стычки в действительности сближают их, они бы не поверили. Не поверили бы они и тому, что сближает их и сама спадающая вода. А между тем все это было так. И лучше их самих понимал это Аверьян Низовцев, неожиданно оказавшийся почти без дела и очень этим тяготившийся. Невольно опасаясь, как бы увлекшиеся капитаны не потеряли бдительность, он, не выдержав, прямо предложил свои услуги Одинцову.
— Спасибо, но мне лично пока не требуется: сами с усами, — усмехнулся тот. — А вот Елену надо бы сменить — пусть передохнет немножко.
— То-то надо бы, да разве сладишь с ней, упрямицей? Ты бы приказал ей как старший капитан…
— Какие там приказы! Нет, уж ты как-нибудь сам, да смотри не нагруби…
— Грубость не по нашей части, мы с дамами вести себя умеем, — сказал Низовцев и, должно быть, для того, чтобы ни у кого в этом не было сомнений, обратился к Симаковой необычайно вежливо и дипломатично:
— Ну как, Васильевна, водичка-то все убывает?
— Убывает, убывает, Аверьян Иванович. Все нервы вымотала эта Ветлуга, не говоря уже о Вохме!
— Так, так, Васильевна. Я вот ветлуга́й, а прямо тебе скажу: нету моей моченьки…
— Вы идите отдыхайте: я тут одна побуду…
— Что ты все одна да одна? Чай, поди умаялась…
— Ничего. Вот скоро на Волгу выйдем.
— Да, да, теперь уж скоро, ну, а все же ты бы малость поспала, нельзя же так. Дивуй бы некому сменить.
— Простите, Аверьян Иванович, но хочется самой суда в просторы вывести.
— Просторы-то просторами, а видать тебе Ветлуга с Вохмой по сердцу пришлись.
— Не знаю, может быть. Во всяком случае, я как-то с ними подружилась, а дикарку Вохму, наверно, не забуду никогда. — Симакова с минуту помолчала. — А интересно, как это лось с медведем очутились там на диком островке?
— Игра стихийных вод. Я примечаю с некоторых пор, что водная стихия играет не только неразумными зверями…
— Ну это вы опять не в тот фарватер, Аверьян Иванович…
— Как же это так не в тот? — запротестовал Низовцев. — Кому-кому, а уж лоцману-то надо знать, на какой фарватер стано́вится его подшефный капитан. Да и то сказать: коли уж с речками можно подружиться, то почему бы мне не подружиться с хорошими семейными людьми?
— Волга! Волга! — вдруг закричала Симакова. — Самый полный вперед!
— Вперед! Вперед! — подхватил из своей рубки Одинцов.
И в это время как бы распахнулись огромные ворота в да́ли, в гладкую текучую безбрежность. Это плавно и могуче лилась Волга.
Она прибывала.
ЗОЛУШКА-ВЕСЕЛУШКА
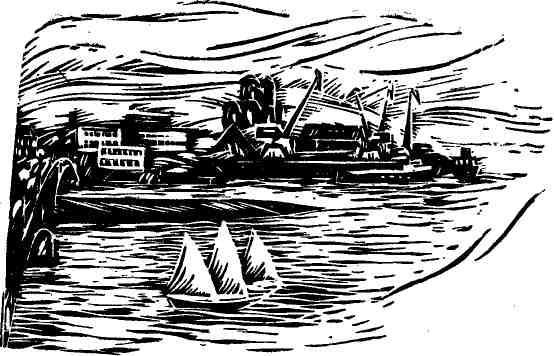
По ночам пароходы гудели особенно гулко и протяжно.
От гудков Иволгин просыпался и невольно взглядывал в окно на Волгу. Навстречу ему медленно двигались огни. Пароходы возвращались из далеких рейсов. Они несли с собою таинственные запахи больших портовых городов, веселый, волнующий говор незнакомых, но чем-то родственных ему людей, их длинные, плавно покачивающиеся палубы сулили радость встреч.
Были встречи и у него. В ту весну Иволгин чувствовал себя рекою, вылившейся из берегов. Он безумствовал. Не спал ночами, сочинял стихи. Подписи под стихами он не ставил, зато над каждым обязательно приписывал: «Волжанке». Волжанка — студентка Горьковского мединститута и дочь капитана парохода «Русь», на котором он ехал по своим газетным делам, — читала его послания штурману Привалову.
Тогда он перешел на прозу. Написал очерк о команде парохода. Всех хвалил, а Привалова изобразил самовлюбленным карьеристом. Ей очерк не понравился. Она считала, что он оклеветал Привалова.
— Зачем вам понадобилась эта злая карикатура? — спрашивала она, и он не мог ответить. Защищая свою поруганную честь, штурман добился, чтобы журналиста отозвали с парохода. Когда Иволгин уезжал, его волжанка не вышла даже попрощаться. Не отвечала она и на его отчаянные письма.
Разлив сменяется меженью, реки застывают в берегах. Притихло все и в сердце Иволгина. Кто бы ни был повинен в этом, но все уже ушло и не вернется, как не вернется Волга к своим истокам. Оставалось только слушать, как дышат пароходы за стенкой дебаркадера, вспоминать и ждать каких-то перемен. В память о той поездке он снял на пристани маленькую каютку. Кто знает, быть может, он еще надеялся. Не потому ли так волновали его все приближающиеся всплески колесных плиц, не оттого ли так тревожили зовущие гудки?
И вот как-то тихой летней ночью как будто кто-то коснулся его плеча. Иволгин проснулся с ощущением чего-то нового, радостного. В открытое окно ворвался мягкий, протяжный, немного сиплый гул. Быстро приближаясь и разворачиваясь на ходу, пароход трубил задорно, весело и обещающе. По выбеленным рейкам каюты Иволгина побежали пятна света, замелькали, заметались тени, послышались истомленные вздохи машины, донеслась команда капитана, затрещали кранцы, и пристань мягко закачалась на волнах. Это был какой-то новый, неурочный, неизвестный Иволгину пароход.
— Э-эйй! — казалось, крикнул он гудком. — Вставай, приятель!
Иволгин вскочил, оделся и выбежал на пристань. Здесь, как всегда, толпились люди. Кто-то кого-то встречал, кто-то смеялся, кто-то звал носильщика, а двое стояли чуть в сторонке, глядели друг другу в глаза и улыбались, и на щеках у женщины блестели слезы. Нет, его, Иволгина, никто так не встречал. Глаза у той всегда были сухи, а губы насмешливо кривились. Как все же хорошо, что у времени нет возврата!
Вдруг его окликнули. Какая-то незнакомая девчонка стояла вверху на палубе и махала ему рукой, улыбаясь во все лицо. Он не поверил, что девчонка машет именно ему, и не ответил на ее улыбку. Он даже отвернулся, подавляя раздражение. Да, и этот новый пароход не принес ему ничего нового. И не смешно ли, не глупо ли ждать и все надеяться на что-то?
Опять его окликнули. Иволгин поднял голову, но девчонки на палубе уже не было, только пожилой матрос, постукивая деревом, складывал шезлонги.
Внезапно Иволгин увидел ее внизу. Кружась в людском водовороте, как щепка среди волн, она, то исчезая, то снова показываясь, двигалась навстречу. И махала ему рукой. И улыбалась. И что-то кричала. Что она кричала, он не расслышал, потому что голос у нее был тихий, неуверенный. И улыбалась она чуть-чуть растерянно, будто стесняясь своей улыбки. Иволгин смотрел на нее с любопытством и недоумением. Худая, угловатая, с растрепанными волосами. Лицо подвижное, настороженное. Глаза большие, умные, и трудно определить, чего в них больше — радости или беспокойства.