Из студентов создавали на летние каникулы концертные бригады для обслуживания отдыхающих в Парке культуры и отдыха имени Горького. Я попал в одну из бригад музруком. Цель студенческой концертной практики — пропаганда современных песен и классики. Музруки должны давать краткую характеристику номеров, доносить до слушателя «зерно» музыкального слова, готовить к активному восприятию. Советовали выпукло показывать героику в музыке Бетховена на фоне узкого мира шубертовской «Форели».
Вначале связывали меня указания, но после стало уже легче. Язык развязался, и скоро скучно стало говорить одно и то же. Начал почитывать, догадываться, придумывать. Необходимо было говорить кратко, убедительно, образно, а это очень трудно.
На одном концерте я так перестарался, так намутил в светлом ручейке романтики, что после исполнения «Форели» Шуберта слушатели жидко пошлепали. Студентка Киселева запротестовала:
— Если так будет дальше, — брошу этот номер! У тебя рыбы начинают плавать вперед хвостами.
Значит, загнул не туда, испортил красоту. Теперь самая пора, когда дома у нас играют чебаки, зависая в теплой струе омута на солнечных лучах. Отец утрами на переборах — узкие места реки — вытряхивает из мокрой усатой верши живое прыгающее серебро. Рыбы мягко стучат в ведра, трепещут калиновой бахромой жабр.
Много надо знать и глубоко чувствовать, чтоб немного и точно сказать. Нет у меня слов, стреляющих от сердца. Мысль бьется, а слово в руки не дается. Послушать бы оратора, подсмотреть, как он торит тропку к сердцу человеческому.
Но пришло из дома письмо. С первыми ручьями умер отец. У матери на руках осталось двое. Долго еще доводить их до дела. И я сам пока никуда не вышел. Не думал, что так скоро придется мне в семье заменять отца. Мечта не сбылась.
От станции до коммуны — не ближняя дорога. Если тронуться с солнышком, — ночь встретишь на своей грани.
Мой путь домой и радостен и грустен. Как пойдет жизнь? Не верилось, что опустело место в семейном застолье, не стало руки, поднимавшей меня.
А кругом свет и блеск дня… Манит даль далекая. Светел простор полей в оправе молодого лета. Солнце в полосах поднимает хлеба, опрыснутая коротким дождем дорога просится под ногу. Ходко несут молодые ноги немудреные пожитки за плечами да мои двадцать лет.
Ночь застала в полях коммуны. Остаток пути шагали со мной воспоминания. Эти полосы боронил я. Здесь пахал позднее. По совету учителя, чтоб не бездельничала голова, брал в поле словарик языка эсперанто и, шагая за плугом, учил слова, составлял предложения про коней.
В коллекции учителя я когда-то видел красочные открытки городов, лазурных морей, диковинных пальм с непонятными надписями. Учитель сказал, что это послали люди из далеких стран, а пишут они на языке, который везде понимают. Я стал приглядываться к школьной географической карте, на полях которой были изображения мулатов, негров, креолов, самоедов, пустынь с пирамидами и львами. Захотелось самому написать письмо человеку из далекой земли. Только спустя много времени отправил я первое письмо портнихе из немецкого города Цитау. Ответа долго не было, да я и не верил, что она откликнется на мои каракули. Но однажды отец принес из конторы необычный конверт.
— Вертели его в руках мужики, но не поняли, к чему его к нам занесло. Из коммуны не писали в другое государство.
— Может, ищут кого, какая потеря случилась, — догадывалась мать.
— Нас ищут. Нам письмо. Учитель растолковал.
— Господи, да у нас кому теряться? Сроду никто дальше пашни не ездил!
— Распечатывай, — заставил отец. — Почитаем, только язык-то не наш.
— На эсперанто написано, — сказал я, с волнением раскрывая письмо.
— Это какое такое наречие? — поинтересовалась мать.
— Такой язык… Его легче понять.
Сразу прочитать письмо не мог. Начал листать словарь, а родители рассматривали цветной снимок города и фотографию портнихи.
— Строения не наши: крыши стоят востряком. На улицах чисто.
— Немецкая девка нарядная, в сережках. При богатом семействе росла, иголки, может, не держала.
— Портниха она, — сказал я.
— Значит, важная, не для простого народа. Фасонная. Может, еще и непутевая. Путная-то не пошлет с бухты-барахты из другого государства свою карточку.
Когда я разобрал письмо и сообщил его содержание, отец сказал:
— Дельная штука. Вроде бы соединение языков образует. Можно достигнуть человека в другой державе.
— Интересно, — согласилась мать, — только сомнительно: не подсыпана ли какая отрава?
— Что-то ты не про то, — возразил отец. — Не верить человеку — без отравы скорей околеть можно.
Мать вымыла руки, заставила и меня. Отец не мыл.
…Лунный свет лег на лес, потек со склонов в долину. Куст пошел куда-то на ночь глядя от реки по лугу да так и остался, где сморила дремота. Был тот час ночи, когда сны ушли к людям досказывать давнишние, забытые дела.
В конце плотины, где когда-то прохладными утрами грел колени и руки у фляг с парным молоком, были выстроены ворота. На темном фоне леса месяц высветил узорную вязку. Все сооружение казалось высечено из белого сияющего мрамора. Принялся рассматривать ворота, сделанные из цельных стволов берез, с искусно вделанными переплетами.
— Кто там шарится? — послышалось от амбаров. — Кому каку боль надо? А то приложусь да бахну!
Узнал по голосу деда Афанасия. Он завозился где-то у конюшни, стукнул палкой по стене. Надо отвечать, а то бахнет старик.
— Чей ты? Что-то не признаю. А, Павлов сын!
Сидим на предамбарье. Дед спрашивает про город, рассказывает про коммуну, про себя. Усы, борода, шапка засеяны тусклыми пятнами лунного света. Он похож на ожившую скульптуру.
— Эка, время-то копотит как! — оглядывает меня дед. — Совсем мужиком стал. А я сдал. Не гож в корень. Ухо глохнет, а глаз еще берет. Определили меня мужики ночь караулить да зори отводить.
— Кто выстроил ворота, дедушка?
— Столяр наш, Иван Андреевич, покойничек. Парадный заезд в коммуну сделал. Оставил по себе память, покойная головушка. Редеть-выпадать стали зачинатели. Какую тягость подняли! Не голое место оставили после себя молодым. Теперь ваш черед.
Молчим. За лесистый холм опускается месяц. Мягко храпнула в конюшне лошадь. Чудно спит земля в летние ночи!
— Звезда разыгралась, — говорит дед. — Скоро забрежжит, а там и утро…
Сын над Землей
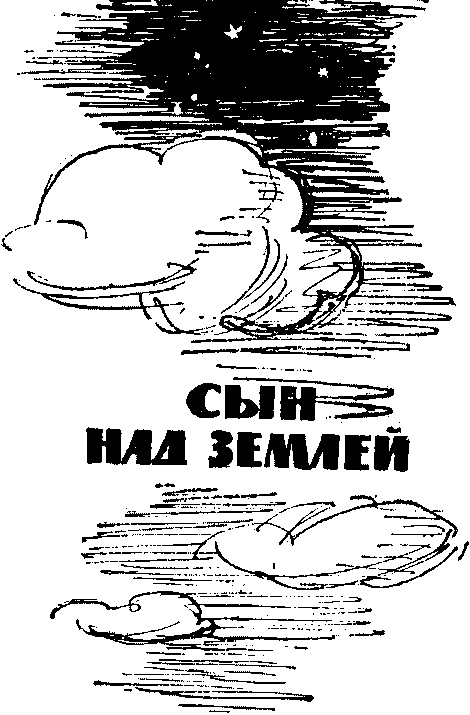
Апрельским вечером 1961 года возвращался я с работы из совхозного сада. Земля жила: по логам шумела светлая талая вода, голый березовый лес строился в шеренги на кручах, как перед походом.
Весенний день у меня прошел в хлопотах, усталость не мешала по пути домой строить планы общественного сада, представить тот день, когда набухнут, а потом проклюнутся на яблонях почки и порадуют глаз молодой зеленью.
Вошел в улицу села. Из ограды выскочила девчонка, за ней по улице помчался мальчишка. Оба показывали в небо пальцами, кричали встречным:
— По радио сказали: там человек! Летит! Ты, Сонька, ступай в эту улицу, а я — к дяде Терентию!
Произошло что-то важное: ни одно событие не выталкивало так ребятишек из ограды. Тракторист Сяглов из избы стучит мне в раму окна.
— Человек в космосе! Наш! Гагарин! Пролетел над Африкой, теперь на спуск пошел.
Не было такого радостного дня у весны! Нахлынуло волнение… Не могу удержаться, заворачиваю в кузницу. Там гукает еще наковальня, молодой кузнец вьет кольца из раскаленного железа, искры стреляют в дверь.
— Саша, — кричу я, — какая новость! Человек в космосе! Погоди не стучи!
— А что теперь делать?
— Давай радоваться!
— Человек-то наш?
— Наш.
— Андрюха, бросай кувалду, — сказал он молотобойцу. — Железо успеем накалить да потискать завтра. Человек принес хороший слух.
У кузницы собираются люди, дознаются-допытываются, как мог человек улететь от Земли.