Тяжко все это вспоминать, сеньор, но хоть я и притомился, а все же хочу вам досказать до конца.
Коченеть мы уже начали. Это была смерть. У меня на глазах умер Брюзга. Умирая, он схватил меня за руку и что-то забормотал, — теперь и не вспомню, что он мне говорил, где там было запоминать. Все смешалось тогда: люди и быки, мертвые и живые. И по сию пору не пойму, как я жив остался. Ничего дальше не помню. На другой день очнулся я уже в Кайсе вместе с другими живыми. И Карлос Арренега, по счастью, среди них отыскался. Мертвых тоже на том же баркасе привезли. Кто-то всучил нам деньги — а мы тогда даже и не понимали, зачем они нам.
Все, что у меня было, — все под водой осталось. И радость жизни, какая еще во мне была, она тоже там утонула. Черная тоска легла мне на сердце и весь белый свет черной пеленой закрыла. Взял я гармонику свою и кинул в Тежо. И ни разу в жизни больше ни одна гармоника не пела у меня в руках. Я ненавидел теперь эту проклятую реку, а ведь как я любил ее прежде… Утешала она меня и мечтанья всякие во мне будила. Но все они погибли в ту ночь.
Глава тринадцатая
Последний галоп
С тех пор никто не звал меня Белой Лошадью. Это прозвище погибло вместе со всей моей прежней жизнью. Почему, почему никто не поверил мне, когда я говорил, что всех нас ждет беда, что белая лошадь шутить не любит и, уж коли распустила она свою гриву, — бури не миновать. И не миновать смерти.
— Нет, такой работой кормиться себе дороже, — объявил я Карлосу Арренеге, едва язык мой снова заворочался. — Ни за что больше за это не возьмусь, пусть хоть весь свет провалится в тартарары.
Прежняя ярость снова во мне закипела.
— Уйду я отсюда, насовсем уйду. Куда-нибудь на юг подамся, ну хоть в Алентежо.
— Можно еще сбежать в Марокко или в Испанию.
— А что, давай вместе, а?
Карлос не возражал: его все одно в солдаты упекут, а ему до смерти неохота ломать свои кости в Форте-Элвас.
Этой же ночью переправились мы через Тежо и двинулись в путь-дорогу. Долго мы проблуждали, прежде чем добрались до Ольяна[15]. Отсюда до Марокко нужно было плыть морем.
И тут Карлос заколебался. Обратно его вдруг потянуло. Уж я его срамил, срамил, и не то чтоб я хотел силком его за собой тащить, а больше из-за того, что и сам не прочь был повернуть назад. «А вместе, — думал я, — мы непременно доберемся, куда задумали».
Шакал
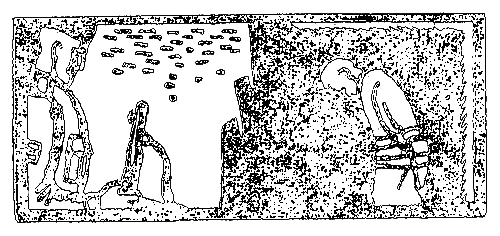
Немые крики
Признаться, меня даже несколько смущала та умиротворенность, которая все явственней проступала в нем по мере того, как он углублялся в дебри своего повествования. Когда он рассказывал, я видел перед собой другого человека, ничем не похожего на того вечно раздраженного субъекта, которого я привык видеть. Яростная злоба, постоянно кипевшая в нем, сменялась первобытной радостью самовыражения, посещающей человека во время исповеди. Его рассказ и вправду походил на исповедь: шаг за шагом раскрывалась передо мной вся его жизнь и он сам со всеми своими жестами, словечками и этим преступлением, которое свело меня с ним в общей камере. Лицо его разглаживалось, голос звучал кротко, и по временам он улыбался, словно падший ангел, несправедливо изгнанный из рая теми, против кого он и не помышлял восстать. Когда я снова стал записывать то, что он мне рассказывал, он сделал вид, будто ничего не замечает, и взглядывал на меня со смирением и даже некоторой гордостью. Раздражался он только в тех случаях, когда по выражению моего лица видел, что шум в камере мешает мне сосредоточиться.
А в часы, когда я читал ему очередной кусок и вся камера, как по уговору, хранила молчание, он на глазах превращался в простого и славного малого, живого, неглупого, может быть, даже по-своему счастливого. Время от времени он ронял: «Да, да, точно так», — кивая в знак согласия бритой головой.
И все же я чувствовал, что отчаяние вновь просыпается в нем. С каждым днем он становился все беспокойней и недоверчивей, и я невольно ждал от него какой-нибудь дикой выходки вроде той, с «Марианой», когда он в бешеной ярости готов был сокрушить все кругом. Он опять начал раздражаться по любому поводу и, казалось, сознательно выискивал предлоги, чтобы взвинтить себя еще больше. Не знаю, что так сказывалось на его настроении; быть может, приближение судебного разбирательства и нетерпение, связанное с желанием узнать, получит ли он обещанную свободу. Или сама его исповедь, это искусственное нагромождение фактов, о которых он мне рассказывал и которые подводили его сейчас к вершине пережитой им драмы. Лицо его снова стало, подергиваться тиком, губы дрожали, и он шлепал себя по губам ладонью, стараясь унять их дрожь.
Возбужденный своим повествованием о великом разливе, он поспешно покинул меня и долгое время сидел в умывалке. На обратном пути он намеренно врезался в группу сидящих евреев и грубо растолкал их, нагло проговаривая:
— Ишь расселись тут, будто они одни в камере!
Я видел, что он подсознательно подражает нацистам, — вероятно, они вызывали в нем невольное восхищение, хотя он и старался скрыть это от меня: все-таки привязанность к прошлому заставляла его дорожить моим обществом.
Один из евреев, совсем еще юноша, что-то сказал ему, я не расслышал, что именно. Но в тот же миг снова раздался остервенелый треск воображаемого автомата и крик Сидро, задыхающегося от гнева, с бешено выкаченными глазами:
— Вот так всех вас отсюда надо выкурить!
Потом, немного утихнув, он подсел ко мне и начал оправдываться: он, мол, просто пошутить хотел, забавно видеть, как эти жиды пугаются.
— А тебе не кажется, что это слишком дикая шутка?
— Вся наша жизнь теперь дикая, — отпарировал он. — А этим лучше бы загодя привыкнуть, — все одно им отсюда не выскочить.
— Похоже, что ты сам не отказался бы расстрелять этих несчастных.
Он смешался, потом замотал головой, сначала неуверенно, потом с негодованием.
— Но ведь тебе придется стать надзирателем в лагере или где-нибудь в другом месте, иначе тебя не выпустят отсюда, — продолжал я убежденным тоном.
— Вы так думаете? — Лицо его выражало испуг и растерянность. — А что же мне делать?
— Ну, это уж ты сам должен знать. Впрочем, а почему бы тебе не согласиться, — сказал я с намерением добиться от него более ясного ответа. — Свобода есть свобода.
— Вы всерьез это говорите?
— Разумеется. Разве можно шутить такими вещами?
Он загадочно улыбнулся.
— Ну, так я на это не пойду.
— И напрасно. Все равно благодарности ни от кого не дождешься. А что будет с Неной? Ведь ты ее потеряешь…
— Вы, сеньор, мне друг. И я теперь понимаю: те, кто вас сюда запрятал, они большую ошибку сделали.
Ему, бедняге, и в голову не приходило, что «они» — те, от кого я не мог ожидать ничего, кроме смерти, — что именно они погнали его воевать и сделали убийцей и они же будут его судить. Но когда-нибудь, я верю, он поймет и это.
— Я вам, сеньор, не показывал мою Нену… Никому другому я сроду не показал бы.
Он открыл бумажник и протянул мне фотографию девушки: ничем не примечательное лицо, пожалуй, чуть грубоватое, с затуманенным взглядом.
— Славная девушка…
— Вот если бы вы живую ее увидели, мою Нену… Она мне письмо прислала — в ответ на мое, — пишет, что ждет меня. Как вернусь, мы с ней поженимся. Вот из-за нее-то я как раз и не могу надзирателем заделаться. Пусть уж лучше меня со всеми вместе в лагерь отправляют…
— Ну, теперь уж скоро все решится.
— Всего пять дней осталось, в аккурат сколько на руке пальцев…
Он встал и подошел к окну. В воздухе, проникающем в камеру с улицы, ему уже чудилась свобода — она посылала ему привет. Но вот лицо его помрачнело и задергалось. Он поспешно прикрыл ладонью дергавшуюся щеку, словно не желая, чтоб кто-нибудь заметил этот симптом нарастающей в нем тоски.
15
Порт на юге Португалии.