Что спорить со взрослыми бессмысленно, я знаю давно. А как еще не раздражать их, меня научил в т ...
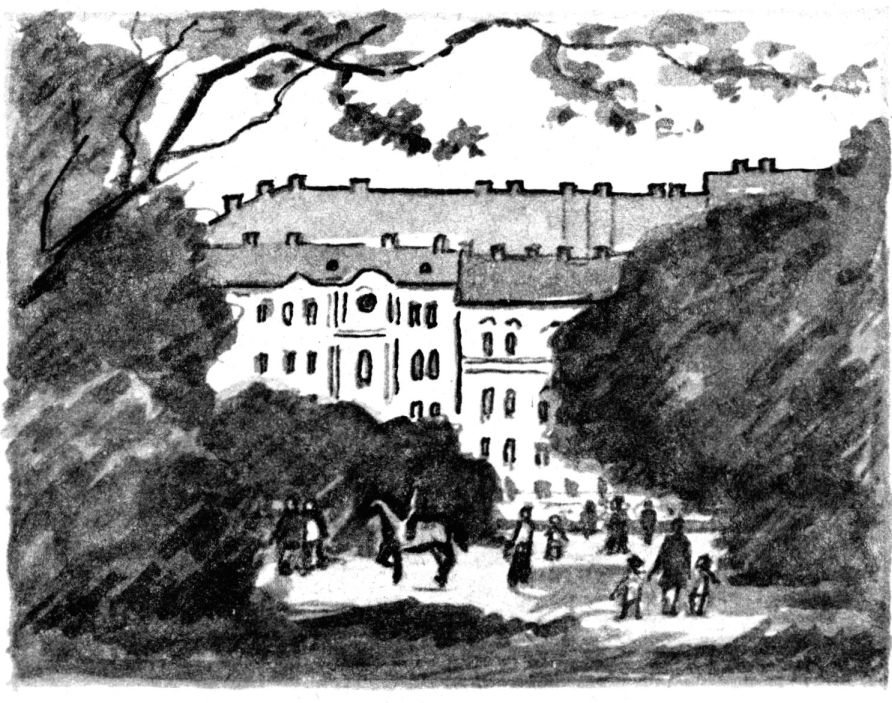
Что спорить со взрослыми бессмысленно, я знаю давно. А как еще не раздражать их, меня научил в трамвае маленький мальчик. Вернее, научить он никого и ничему не мог, ему было годика два, наверное. Просто он натолкнул меня на мысль, как вести себя, чтобы тебя не одергивали.
Мальчик все время спрашивал своего папу: «Зачем? Почему? Почему трамвай? Зачем не прыгай?» А папа встряхивал мальчика, заставлял сидеть смирно.
Я стояла позади их сиденья у кассы. Мальчик иногда оборачивался ко мне и улыбался. Вязаная шапочка сползла у него набок, открыв маленькое ухо и влажные волосики. Я протянула руку к его голове, чтобы поправить шапку, но мальчик, мигом извернувшись в отцовских руках, схватил меня за палец и засмеялся так радостно и громко, что многие пассажиры стали поворачиваться к нам и тоже улыбаться. И тут кто-то крикнул:
— Смотрите, лошадь! Лошадь гуляет!
Рыжий с блестевшей шерстью конь бегал кругами на лужайке у Инженерного замка. Он бежал, круто изогнув шею, грива и хвост, плавно опускаясь и приподнимаясь в такт бегу коня, казались воздушными.
Трамвай шел медленно. Но мне очень хотелось, чтобы он остановился и можно было долго-долго смотреть на коня.

— Папа! Папа! — торопясь, просто захлебываясь словами, кричал мальчик. — Кто? Почему?
Он то приникал лицом и ладошками к стеклу, то, оттолкнувшись, выжидающе смотрел на отца, на меня и на других пассажиров, ожидая ответа.
Папа опять встряхнул сына, наверное, сильнее, чем раньше, и мальчик заплакал.
Пожилой мужчина, повернувшись к мальчику, объяснил:
— Лошадку погулять вывели. Цирк рядом. Знаешь…
Он хотел, наверное, еще что-то сказать, но, взглянув на отца мальчика, замолчал. Уши у папы стали темно-красными. Мальчик был таким приятным, забавным, а папа казался мне мрачным занудой. Я тогда подумала: что можно сделать с папой мальчика, чтобы он не был таким противным? Мой вывод оказался малоутешительным: если нельзя превратить папу в такого же приятного и обаятельного человека, как сам мальчик, то мальчику нужно молча сидеть, не двигаясь, на коленях у своего родителя. Тогда наверняка папа будет доволен таким неподвижным и молчаливым ребенком.
Я решила вечером испытать на родных, маме и бабушке, себя в новом качестве. Мне кажется, им, так же как и папе мальчика, все равно, что я живая девочка, а не послушная кукла, такой же, как они, человек, только младше.
Я вышла из трамвая. Мальчик смотрел на меня в окно доверчиво и грустно. Мне захотелось взять его на руки, поиграть с ним. Я бы часто ходила к нему в гости. Мы бы вместе гуляли, а на ночь я бы читала ему книжки. Но город большой, и вряд ли я увижу мальчика еще раз. Трамвай идет от школы до моего дома всего десять минут. За каких-то десять минут привязаться к чужому ребенку?
Почему портфель такой тяжелый, хотя я сдала из него две толстые книги в библиотеку? Отчего ноги делают шаги все короче, чем ближе я подхожу к дому? А потому, милый мальчик, что я просто не хочу идти домой.
— Кира, ты опять задержалась! — Встретила меня бабушка.
— Трамвая долго не было, — ответила я.
— Пойдем на почту, — сказала бабушка. — Почтальон утром извещение принес и попросил: «Заберите скорее вашу посылку. Мы ее на окно поставили. Шипит и бьется, вдруг развалится? Там какие-то бешеные зверьки».
— Может, папа мне сурка или суслика прислал? — спросила я.
— А теперь по телефону звонят, чуть не приказывают: «Придите!» Раньше шоферы, дворники, официанты были скромнее. Стеснялись лишний раз беспокоить людей. А теперь с каждым годом все хуже. Кстати, нас в зоопарке ждут с посылкой. Я звонила.
Из бабушкиного паспорта, что лежал на столе, виднелось извещение. И мы пошли на почту.

Я люблю маму и бабушку, они же, видимо, недолюбливают друг друга. Бабушка, разговаривая со своими гостями, в отсутствие моей мамы не называет ее Тамарой или хотя бы Тамарой Васильевной. И уже ни в коем случае дочкой, а только невесткой. Мама отвечает тем же: «Нет, нет, это чашка свекрови» или: «Вот мы с Кирочкой уедем — пусть поживет со своими гадюками и пауками». Мама так издавна и часто грозится уехать, что я уже ни в какой отъезд из Ленинграда не верю. Раньше верила и боялась. Мне не хотелось расставаться с бабушкой. И я люблю свою школу и даже наш маленький школьный двор. В середине двора есть щель в асфальте. Весной оттуда пробивается трава, а осенью виднеются края шляпок шампиньонов. Из всего, что есть во дворе, если не считать, конечно, детей, собак, кошек, птиц, мне нравится эта щель в асфальте. Когда мне было семь лет и я пошла в первый класс, я встретила на улице старенького дяденьку. Он нес на ладони, бережно прижимая к груди, зеленых, как мне показалось, птенцов. Я так смотрела на них, что старичок остановился и сказал: «Посади ее, девочка. Это маленькая лиственница!» — и дал махонький, согретый ладонью саженец. Я посадила его в щели асфальта. Мы с Сережей Бодровым, мальчиком из нашего двора, огородили саженец, нарисовав круг разноцветными мелками. Я представляла, что лиственница выросла большая, радостно зеленая, как елка в зале. Через три дня ее смяла машина, увозившая мусорные баки.
И все-таки теперь я бы очень хотела уехать отсюда. Куда? Наверное, к папе.
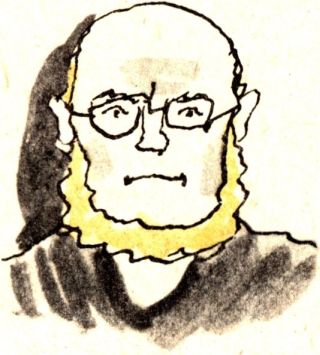
Мой папа, сын бабушки, второй год был в экспедиции. Иногда он звонил нам по телефону. Тогда бабушка надолго освобождала маму от домашней суеты — стирок, стряпни и вытирания пыли. Только цветы разрешала поливать.
«Это успокаивает и радует усталого человека», — сказала мне как-то бабушка.
Даже не очень вникая в происходящее в семье, я понимала, что папе сейчас плохо и ему необходима временная материальная помощь. Почему-то ему не заплатили за летнюю работу. Значит, мама снова будет делать чертежи дома.
Я как-то спросила у нее: «Это, наверное, плохо, что тебе приходится много работать?» Мама рассердилась и ответила: «Какая разница, кто в семье больше зарабатывает? Об этом думать мелочно и стыдно».
По-моему, мама права.
Весной и летом папа иногда присылал посылки с дырочками в крышке.
Сейчас мне очень хотелось, чтобы в посылке был ласковый пушистый зверек и записка от папы: «Кира, я вспомнил, что ты давно просила сурка. Я долго искал его, но все попадались злые. А этот ручной».
— Вы за живой посылкой? наконец-то!
— Да, — ответила бабушка, слегка кивнув головой.
— Иди сюда, девочка! — позвал меня служащий.
Большой ящик уже дергался у меня под мышкой, а бабушка все заполняла квитанцию. Мы были единственными на почте, кому сначала выдавали «ценность», а после брали для проверки документ.
И мы поехали в зоопарк. В кабинете заведующего отделом рептилий нас ждали сотрудники. Бабушка стояла поодаль, стояла прямая, строгая. Она двумя руками прижимала к животу сумочку и выжидательно смотрела на меня. Я втиснулась между сотрудниками и стала следить за их руками: толстые ящерицы, небольшие и размером побольше змеи, огромный паук обхватил мохнатыми лапами чью-то маленькую ладонь. В ящике рылись пинцетами, на концах обмотанными марлей, и аккуратно, почти нежно, вытаскивали каких-то других мелких тварей. Произносились латинские названия. И вдруг жалостно по-русски добавили к латинскому слову:
— Ах, мертвая! Нет, кажется, жива! Воды, надо спрыснуть водой. Нет, все, поздно. Она уже умерла, жаль. Чудная была бы самочка для Гоши.
— А Гоша кто? — спросила я.
— Скорпион, конечно, — обиженно ответил бородатый мужчина.
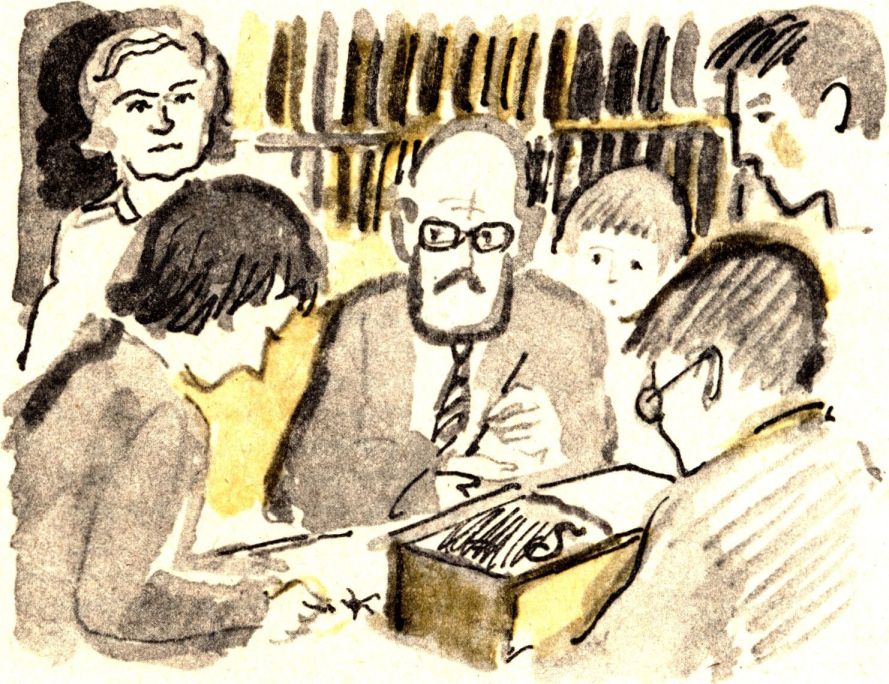
Наконец со дна ящика достали два конверта. Один дали мне, и бабушка тут же оказалась рядом. Не глядя на меня, будто меня и вообще нет с ней рядом, бабушка вскрыла конверт. А над вторым склонились сотрудники зоопарка, как раньше над посылкой. Я стояла между двумя письмами и по лицам взрослых старалась отгадать, о чем пишет отец.
Один из сотрудников выдал бабушке банку, сверху обтянутую марлей. Я ждала, что сейчас, как обычно, попросят: «Зачем он вам? Каракурт опасный… У нас самка есть для него». А бабушка ответит: «Николай Ростиславович вернется и опять займется научной работой. Видимо, этот экземпляр ему нужен». Но никто не просил, уже зная, что может ответить бабушка.
Бабушка, улыбаясь, простилась, хотя глаза не скрывали ледяного презрения к сотрудникам. И не надо было слов, чтобы понять: «Вы же мизинца моего сына не стоите, бездари».
И как-то самой собой, помимо моей воли, я тоже снисходительно кивнула, прощаясь, вдруг почувствовав себя дочерью великого человека.
Дома бабушка поставила банку на подоконник, рядом с другими банками, накрытыми марлей. Мама, передернувшись от отвращения, вышла на кухню, а мы с бабушкой стали внимательно оглядывать комнату: надо было найти весеннюю муху. Нового жильца нужно покормить с дороги. Муха дремала на потолке. Я взяла сачок.
— Осторожно, не убей, — сказала бабушка и вышла на кухню.
Из кухни слышалось: «Неужели ты, Тамара, не понимаешь, что твой муж талантлив?» — «И поэтому бросил университет, остался без специальности». — «Да Николай еще ребенком разбирался в биологии не хуже профессоров».
Я понимала, что бабушка не права, когда защищает папу. Но, слушая неоправданную похвалу себе, я хоть и краснела от досады и смущения, однако где-то далеко, в глубине души, соглашалась с бабушкиным убеждением: «Кира на редкость смышленая девочка».
Часы на стене щелкнули и пробили семь раз. На улице светло. Я вынула учебник по математике и стала читать условие задачи.
За окном так кричали воробьи, что я не сразу расслышала приглушенный звонок телефона.
— Это ты?
Я не ожидала, что Сережа еще позвонит мне когда-нибудь, и молчала.

— Кира, я же слышу: это ты. У тебя ручка во рту, и ты по ней стучишь зубом.
— Чего тебе? — спросила я сипло.
— Ты чего делаешь? Я не сержусь, просто хочу поговорить с тобой. Нужно увидеться.
— Решаю задачу.