Некоторое время мы сидели молча. Настенные часы отсчитывали секунды, а я чувствовал растущую тяжесть век и из обволакивающей темноты выплывал, как из дымки, образ феи, такой знакомой и такой желанной.
В то же мгновение, когда я увидел ее со всей отчетливостью, когда она обожгла меня своим взглядом и стала, кажется, душить меня улыбкой, я торопливо открыл глаза.
— Ты хочешь спать? — Мама попыталась подняться и почти вскрикнула от боли.
— Нет-нет, не хочу спать, — я поспешно сделал знак рукой, чтобы задержать ее.
Она внимательно посмотрела на меня, пытаясь перехватить взгляд, потом удивленно спросила, теребя сухими пальцами узел цветного платка под подбородком:
— А как же ты так болел, что тебе не дали никакого документа?.. Тебе должны были дать эту… справку, бюллетень… — она внимательно следила, чтобы ничего не упустить в выражении моего лица.
— При такой болезни не дают бюллетеня.
Какое-то время мама пристально смотрела на меня, хотя я чувствовал, что она меня не видит. Неожиданно вздрогнув, она спросила:
— Девушка?..
Я кивнул, и мама улыбнулась, радуясь, что материнское сердце и на этот раз ее не подвело.
Однако улыбка исчезла с ее лица, и она принялась поучать меня с тревогой в голосе:
— Знаешь, сынок, я так и догадалась по моим плохим снам, что суждено тебе страдать из-за одной девушки. Смотри, что она с тобой сделала. И дурак поймет, что она тебя очаровала и теперь крутит тобой, как ей вздумается. Лучше найди себе девушку, которая ценила бы тебя так же, как ты ценишь эту…
Я слушал маму и пытался понять, почему она говорит мне об этом, она, безумно любившая отца и убежавшая к нему из родительского дома. Отец не испытывал к ней таких сильных чувств, часто даже говорил в лицо, что женился на ней ради земли, которую давали ей в приданое. Она глотала слезы, сносила обиду и все ему прощала. А теперь она советует мне жениться на той, кто будет любить меня слепо, а буду ли я ее любить или нет — не имеет никакого значения. Интересно, что скажет отец, если я спрошу у него совета?
После этого разговора я направился к деду.
Я застал его одного в старом доме, утонувшем в тишине.
Дед сидел у плиты и перемешивал мамалыжку в маленьком чугунном казанке.
На сковородке жарились яйца, а рядом пускала пар через узкий носик высокая кружка с длинной алюминиевой ручкой.
— Опять один? — спросил он меня, когда я вошел в комнату.
— Нет, со мной книга — мы все время проводим вместе, — ответил я, и после того, как пожелал ему «доброго дня», дед обхватил мою голову ладонями и поцеловал в лоб. Я положил книгу на край стола, а сам сел рядом с дедом.
— Я тебе обещал, деда, шляпу, но мне в последнее время никак не удавалось попасть домой…
— Да ладно, не нужно, уж давно святая Мария прошла, — засмеялся он, обнажив три широких и длинных зуба — два сверху, один снизу.
— Знаю, но раз я обещал тебе шляпу, обязательно привезу ее к лету, когда будет сезон.
— Оставь ты эту шляпу в покое, — сказал он, нахмурившись, — лучше скажи, почему так похудел. Болел?
— Кто похудел?! — притворно удивился я. — Быть того не может. Ну-ка дай зеркало.
Дед слез с печи и снова старательно перемешал мамалыгу. Щуплый и тщедушненький дед ел ровно столько, сколько хватило бы цыпленку.
Я взял зеркало и долго разглядывал свое изображение. Моя физиономия, когда-то круглощекая, теперь вытянулась, нос, прежде нормальный, теперь казался непомерно большим, глаза тоже увеличились и будто впали. Только губы не изменились, подбородок с глубокой ложбинкой слегка выдался вперед, что придавало мне вид сильного человека, который знает, чего хочет. В моих глазах горел странный огонь.
— Да, деда, ты прав, кажется, и в самом деле осунулся.
— Это плохо, что ты похудел. Твоя мать несколько раз приходила ко мне и жаловалась, что ты даже не пишешь. А теперь, когда ты приехал в таком виде, могу себе представить… — снял с огня мамалыгу и выложил ее на стол. Его лицо обволок густой пар. Дед вдохнул полной грудью, повернулся к плите и, поставив чугунный котелок на место, влил воду из ведра.
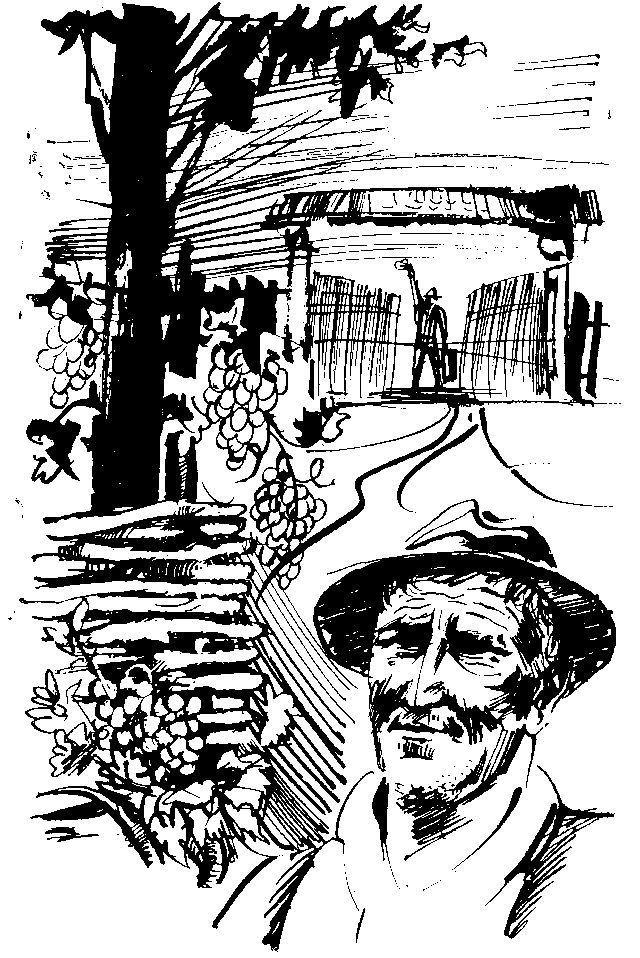
— Она видела плохие сны про тебя…
— Знаю, да ведь сны и есть сны. Я, например, не верю в них.
— Я тоже не верю, однако часто предчувствия возникают во сне. Мне сказал это один старый доктор, живший у нас после войны. И потом твоя мать вряд ли протянет еще три-четыре года, у нее ведь та же болезнь, что и у бабки. Бабка так же чахла, чахла, маялась с поясницей, пока не отошла одной весной. Так что ты уж не огорчай ее. Она, бедняга, и так наказана. Отец твой уже успокоился, постарел, понимает, что матери недолго осталось, но раньше, когда она была молодой, ты и сам помнишь, он много фортелей выкидывал… Матушка твоя только тогда и поняла, что не надо было ради него из дому сбегать.
— Это — любовь, дед, — ответил я, горько улыбаясь.
— Может быть, и ты из-за любви так похудел? — засмеялся он, и, не дожидаясь ответа, стал приготавливать свой столик и спросил о моей худобе больше для проформы.
— Деда, как бы ты поступил, если б снова помолодел и у тебя было две девушки? Одну бы ты любил, а она тебя нет, а с другой — все наоборот. На ком бы ты женился?
Он разрезал мамалыгу на четыре части, выложил яичницу на тарелку, принес в миске овечью брынзу, почистил несколько луковиц и налил два стакана вина, подогретого вместе с красным перцем и подслащенного ложкой золотого меда.
— Ни на одной, ни на другой, — ответил он, хитро улыбаясь.
Мы сели на стол, подняли стаканы с вином, дед еще раз лукаво подмигнул мне и поинтересовался:
— А она красивая?
— Кто? — я прикинулся, что не понимаю.
— Та, которую ты любишь, а она тебя нет?
Я только кивнул, не находя слов, чтобы описать красоту Лии.
— Ну ничего, та, которая тебя полюбит и которую будешь любить ты, окажется еще красивей, поверь мне, — улыбнулся дед.
— Я тебе верю.
— Тогда выпьем в ее честь.
— Выпьем, — радостно и облегченно согласился я, ощутив, какой огромный груз свалился с моей души.
Мы скромно поужинали с дедом, допили вино и погрызли жареные орехи — давно забытое лакомство.
После ужина завязался непринужденный разговор. В конце концов я был вынужден рассказать деду кое-что о Лие.
Поздно вечером, когда я вернулся домой, мама еще не спала. Глаза ее блестели от страдания и боли, она стонала, крепко сжимая побледневшие губы. Я почти не спал всю ночь, прислушиваясь к стонам матери и злому вою ветра, кидавшему в окна обледенелые снежинки.
Утром я сказал матери, что мы поедем на консультацию. Но она даже не захотела слушать.
— Не хочу в больницу, они меня обязательно уложат, да скажут еще, что ничего у меня нет. Уж я-то их знаю, — если находят неизлечимую болезнь, говорят, что ничего у тебя нет.
Почти силой я отвез ее в райцентр, за двадцать километров, а к вечеру вернулся домой один.
Мы остались вдвоем с отцом. Виноградник был вскопан, деревья в саду давно освобождены от плодов. Кое-кто из односельчан еще ходил в питомник, для прививки саженцев, но отца никто не звал, поэтому он не давал мне скучать, постоянно отыскивал работу по хозяйству.
Однажды вечером мы вместе пошли к деду и, слово за слово, они стали обсуждать меня — мол, я уже старый, все мои сверстники давно переженились, а у некоторых — по два ребенка, а один — так уже во второй раз женился. Дед говорил, что всему свое время, а отец — что оно давно подошло. Дед возражал, что одному срок — в восемнадцать лет, а другому в тридцать, но отец твердо стоял на том, что время обзаводиться семьей наступает, как только под носом появляется пушок.
По дороге домой отец продолжал меня поучать:
— Я, Кристиан, дураком был, так ведь по тем временам человек вроде меня был что мошка, гонимая всеми ветрами… Вся наша любовь была земле отдана. Сегодня все по-другому, ты больше не раб земли, а хозяин. А хозяин — это хозяин. Он милует, он наказывает, он берет, он и дает. Так что, если надумаешь жениться, бери девушку, которая тебе самому по вкусу придется…