— Господи, я-то при чем? Мне-то вы зачем это говорите?
— Дело в том, что я увидел вас и влюбился. Потом понял, что это не то, и мне надо каким-то образом заново полюбить свою жену. А она ушла. И нет в целом доме ни одного знакомого соседа, который бы знал, где она.
— Вы, простите, на самом деле такой болван?
— Возможно. Дело в том, что душа моя очнулась от многолетнего бездействия, и мне очень нужен совет.
— Кого любить — меня или жену?
— Не перебивайте, пожалуйста. Жену. Она ушла. Торт на столе. Свет в комнате погашен, и мне страшно.
— Бедняжка! — В голосе Борисовой не было издевательства. — Вы всегда ее любили. Если она не вернется, вы будете самым несчастным человеком.
— Вы думаете, она может не вернуться?
— Я бы на ее месте не вернулась.
— Но мы тридцать пять лет прожили вместе. Мы уже просто не умеем жить друг без друга.
— Научитесь!
— У нас сын…
— Он взрослый, он не осудит.
— У меня сердце останавливается от ваших слов.
— У нее тоже останавливалось сердце. Думаете, легко уйти из дома? Вы думаете, что мне было просто переехать из старого дома в этот?
— Ах да, — сказал виновато Виталий Васильевич, — я совсем забыл, что вы тоже ушли из дома.
— Это ваша жена «тоже» ушла. Я ушла раньше ее, просто ушла.
— Что же делать? — спросил Виталий Васильевич. — Я голову теряю от горя. Я только сейчас понял, что любил ее всегда, но никогда об этом не думал. Что делать?
— Надо любить, — серьезно ответила Борисова, — если любишь — то люби, другого не бывает. Как же вы умудрились, дорогой мой, этого не знать?
— Я знал, наверняка я это знал, но забыл… и никто не напомнил.
ТРУДНЫЕ ДНИ
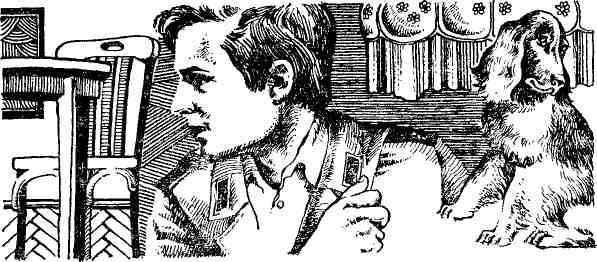
Мать ходила по комнате, скрестив на груди руки, и голос ее был переполнен отчаянием:
— Ты дома всего полчаса, а у меня такое ощущение, что ты целых три года без передышки тянешь из меня жилы.
Женька отвык от ее голоса, от ее манеры больно ранить словами, сидел обиженный, с ощущением пустоты в груди.
— Я мечтал об этом дне, — сказал он глухим голосом, чувствуя, как от слов нечем стало дышать, — я мечтал, а ты все растоптала. Я думал, ты изменилась. Я думал, разлука тебя переменила. А ты кричишь на меня, будто я пятиклассник, пришел из школы и принес двойку.
— Я кричу от досады. Это я надеялась, что в армии ты переменишься. А ты все такой же. Как можно было не сообщить о приезде, не прислать телеграмму?!
— Потому что я хотел неожиданно. Я мечтал, чтоб без телеграммы, как снег на голову.
— А ты не подумал, что приедешь, а мне надо будет бежать на работу? Не мечтал, что в холодильнике будет вчерашний пакет молока и полбанки томатной пасты?
Так они встретились. Женька все-таки не выдержал и заплакал. Она тоже заплакала. Присела с ним рядом на тахту, обняла его и залилась слезами.
— Чем я тебя накормлю? Разве я так мечтала тебя встретить? Когда ты наконец станешь взрослым?..
— Это ты у себя спроси. Разве взрослые матери так ведут себя? Не виделись два года, а явился — сразу орать! — Он вытер слезы серым застиранным платком и стал снимать сапоги. — Ты мать и должна вести себя как мать, должна была обрадоваться, а ты не обрадовалась. Ты отвыкла от меня. Если это кому-нибудь рассказать, никто не поверит.
— Господи, так не рассказывай! Ты бы только послушал себя: я, я, я. А я разве не мечтала? Я разве так мечтала тебя встретить? Почему ты не прислал телеграмму?
— У нас многие не послали, чтоб как снег на голову.
— Я думала, ты стал взрослым. Видно, этого никогда не случится.
Она обняла родную, пахнущую чем-то чужим голову сына и ощутила, как пробивается через это чужое забытый запах его младенчества.
— Люблю тебя, — сказала она, — ты самое драгоценное, что есть у меня в жизни. И никогда не прощу, что не прислал телеграмму.
Никому никогда, кроме самых родных людей, не в силах мы причинить самой больной боли. И никто никогда, кроме самых родных, не прощает друг другу эту боль так светло, без остатка.
— Сколько у тебя денег?
— Тридцать рублей.
— Не транжирь. Я отпрошусь с работы. В виде исключения прибери в квартире. Возможно, я приду не одна.
— Я полы вымою, — крикнул он, — ты даже представить себе не можешь, что я тут сотворю!
Это был его дом, не похожий ни на чей другой. Это была его мать. Она всю жизнь учила его чему-то, не спускала глаз, но он так до сих про и не понял, чего она от него хотела.
Помкомвзвода Леша Чистяков в конце первого года службы проводил беседу. Целый час говорил, какие матери были у великих людей. Никто сначала не понимал, к чему это он. «Первый человек, которого вы увидели на свете, была мать. Первое слово, которое вы сказали, было «мама». Мать — самый родной и дорогой человек на свете, — говорил он, заглядывая в конспект. — Относиться к ней с любовью не только ваш сыновний, но и гражданский долг…» И спросил у Феди Мамонтова:
— Вот как ты, Мамонтов, относишься к своей матери?
— Хорошо, — поднялся рослый нескладный Федя и задвигал круглыми лопатками, будто разглаживал на спине гимнастерку.
— Подробней.
Федя беспомощно зыркнул по сторонам, увидел улыбки и стушевался.
— Чего подробней… Как положено, так и отношусь, не обижал никогда.
— А ты, Яковлев, что скажешь?
Он поднялся и тоже, как Мамонтов, оглянулся на товарищей. Они уже не улыбались. Лица были озадачены.
— Не понял вопроса, — сказал он, — это неестественный вопрос. Каждый человек относится к матери свято. А подробней про эти чувства расписано в художественной литературе.
Старший сержант надолго умолк. Глядел в упор на него холодными, потерявшими выражение глазами и молчал.
— Разрешите сесть? — спросил он, чтобы выручить старшего сержанта, и тот сказал:
— Садись. — Сам тоже сел. — Очень ты умный, Яковлев. Но меня не собьешь. В книжках про любовь к матери правильно пишут. Но ведь от некоторых эти писания отскакивают, как горох от стенки. Например, от тебя. — С этими словами Леша достал из кармана письмо.
Женька увидел почерк на конверте, и сердце его тревожно дернулось. Это был почерк его матери. И тут же Леша стал читать письмо вслух. От того, что читал он его с собственными интонациями, запинаясь посреди фраз, путая ударения, письмо казалось нелепым. Яковлеву стыдно было слушать эти наивные строчки.
«Добрый день, глубокоуважаемый товарищ командир полка, в котором служит мой сын.
Не знаю, к сожалению, вашего имени-отчества, но почему-то думаю, что у вас есть свои дети, большие или маленькие, и вы меня поймете…»
Она писала о своем сыне, о нем, Евгении Яковлеве, который проходит настоящую школу воинского мужества, наверняка умнеет и крепнет телом, а вот что происходит с его сердцем — это ей неизвестно. Ей даже кажется, что сердце его потихоньку черствеет. И, может быть, не только у него, потому что армейская жизнь строга и трудна, среда мужская, всякое сердечное слово, как ей кажется, в такой молодой мужской среде не в моде, вот и затихают потихоньку в сердце жалость и любовь, тоска по родным людям и доброта.
«Я по письмам Женькиного друга к своей девушке знаю, что сын мой жив-здоров. Не знаю, пишет ли его друг своей матери, но мать вашего солдата Евгения Яковлева уже третий месяц заглядывает в пустой почтовый ящик и врет соседям, что «вам привет от Женьки», Я бы могла ему сама написать и нашла бы слова пронять его. Но это не только обидно, это неправильно. Надо, чтобы он сам понял, чтобы у него была сердечная потребность писать, а не мой приказ».
Он ей ответил. Они все тогда написали своим матерям. Леша закончил политчас тем, что раздал всем тетрадные листки и сказал: «А ты, Яковлев, не обижайся на мать. Не забывай: она тебя родила и вырастила». Никто не засмеялся. Все серьезно склонились над листками. Только Аркадий Головин, Женькин друг с шестого класса, глянув на неподвижно сидящего за столом Лешу Чистякова, спросил: