— Десять лет! — объявила Люлю. — И кабы не я, так еще десять лет потеряли бы даром. Ох, Мадам, я помираю — хочу пить!
Реджинальд пригласил дам на чашку чая. После чаепития роскошный лимузин, дожидавшийся у павильона, повез их в Париж. Люлю потрясенно молчала. В автомобиле было полно цветов, куда ни глянь, кожа, бархат, кленовые панели, серебро и зеркала. Он был вполне достоин того, чтобы на его счет обманулись все высшие силы земли.
Глава вторая
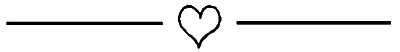
Легкость, с которой отдается женщина, может в равной мере свидетельствовать и о неопытности, и о доступности, и мужчина, не постаравшийся объяснить свою победу первой, а не второй причиной, должен быть уж очень неблагодарным. Став любовницей Реджинальда, Нелли целую неделю жила, буквально затаив дыхание: она ждала, с чего начнет ее новый друг. Одно из двух: либо Реджинальд попытается выяснить, кто она такая, и тогда нужно опередить его, либо не станет ни о чем расспрашивать, пустит дело на самотек, и тут опять-таки следует быть начеку. Главное Нелли сделала: с той птичьей прозорливостью, какая свойственна женщинам полусвета, она сразу сумела взять нужный тон и ни на йоту не скомпрометировать себя. Абсолютно ничего не рассказывала о себе, не носила драгоценностей, наводящих на подозрения о былых романах; даже среди шляпок и платьев безошибочно выбирала лишь те, что, невзирая на их красный или зеленый цвет, выглядели вполне нейтрально. Она приходила на каждое свидание, в ресторан или театр, дрожа от страха, что ей придется открыть Реджинальду все свое прошлое — любовные похождения, небогатую жизнь, вульгарную родню; так она поступила когда-то с Гастоном, который уже со второй недели знал наизусть всех кузенов, всех любовников Нелли. Но теперь какая-то тайная жгучая боязнь замыкала ей уста, не веля выдавать ни своих близких, ни места рождения, ни привычек, ни недостатков и пороков. Она упоминала только те города, где бывала еще в невинном возрасте, говорила лишь о тех собаках, которых сама не знала и не держала у себя; она избегала хвалить любимые концерты и любимых музыкантов, предчувствуя, что они-то первые и разоблачат ее; она старалась не повторять слова своих друзей, скрывая их, как, впрочем, и самих друзей. И ее усилия приносили желанные плоды. Реджинальд не задавал никаких вопросов. Реджинальд явно, хотя и неосознанно, стремился иметь при себе совершенно новое существо, не отягощенное никаким прошлым.
Нелли сделалась осторожной вдвойне. В разговоре она никогда не касалась своей родни, загородных прогулок, школьных лет. Она как бы поместила себя в вакуум, начисто освобожденный от прежнего существования, от прежних привычек, от прежних увлечений и путешествий, от игр и печалей, от всего пережитого; ничего этого не осталось, кругом пустыня! Что уж говорить о былой непорочности, которую она вновь обрела в объятиях Реджинальда! Раз и навсегда она отказалась прибегать к прошлому опыту, надежно похоронила почти все свои воспоминания. Временами она чувствовала себя такой нагой и незащищенной, такой обобранной, что ей хотелось заплакать над собой.
Следует воздать должное Реджинальду: он и не пытался расставлять ей ловушки. Неужели он так хорошо знал всю женскую половину рода человеческого, что предпочел вознести Нелли на пьедестал с помощью молчания и неведения? Или, напротив, ему не хотелось нарушать очарования их встреч, и он сознательно уважал — а она платила ему взаимностью — ее инкогнито? Ибо Нелли приходилось уважать его сдержанность. Обычно разговорчивая, ревнивая, любопытная, она должна была молчать перед этим человеком, которого начинала любить так, как никого еще в жизни не любила, — молчать и не говорить с ним ни о чем, а, главное, о других женщинах.
Нелли пришлось долго осваивать искусство этих полных умолчаний встреч, где ни она, ни он не задавали иных вопросов, кроме самых невинных: о здоровье или об их любви, об отдыхе или о сне. Вероятно, зимой она бы такого не вынесла. Но стояло лето. И жара, подавляющая всех и вся, обессиливала самых болтливых; даже ветер не мог исторгнуть жалобы у деревьев, стонов — у крыш. Оно и к лучшему: насколько приятнее было лежать молча среди всей этой немотствующей безвестности. И пусть на дерево под их окном летели плевки с балконов и птичий помет с крыш, сыпались очески волос и пыль с выбиваемых ковров; от этого оно не становилось говорливее. А все-таки интересно было бы узнать, где это Реджинальд научился таким восхитительным, таким безупречным объятиям, кто его надоумил носить женщин на руках? Он проделывал это столь умело, словно его основная профессия состояла именно в поднимании с дивана грузов длиною от полутора метров до метра семидесяти, весом от полуста до шестидесяти пяти килограммов и в переносе их на кровать. Он никогда не допускал ни малейшего промаха. Ладонь, локоть, — плечо — все оказывалось в нужный момент на нужном месте. Трудно предположить, что до встречи с Нелли он тренировался исключительно на манекенах. Наверняка первый перенесенный на кровать манекен был живым (какая-нибудь мерзкая баба!), а там последовал и второй, и третий. Но, видимо, ни один из них не оказался чересчур тяжелым, ни один не противился, настолько безмятежно смотрел Реджинальд, беря ее на руки. Как бы это исхитриться узнать имена вышеупомянутых великолепных и безупречных особ!
Да, сомневаться не приходилось: ее жизнь состояла из двух половин — той, что требовалось утаить от Реджинальда, и той, что не могла оскорбить их любви. Ведь не думает же Реджинальд, что у нее вовсе не было детства, первых радостей, первой влюбленности. И Нелли выудила из своей жизни привлекательной, но легкомысленной женщины все, к чему невозможно придраться, например, экскурсии в компании посторонних приличных людей — совершенно безобидный предмет для беседы, никаких подводных камней; города ее прошлого выглядели в этих рассказах светлыми, сияющими: Аннеси, где она провела в одиночестве весну; девственно-чистое озеро, ах, какое приволье, какой покой, а лебеди! а гребцы!.. Амьен, где она попала на первое причастие, и где собор тоже отражался в зеркале вод… Повсюду, где прошлое Нелли было скомпрометировано сомнительными связями, каким-то чудом вдруг возникали предметы, существа, пристрастия, имевшие отношение только к ней одной и ничем не вызывавшие подозрений. Да и дома у нее водились кое-какие картины и книги, не носившие отпечатков мужской руки — главного предмета полицейского сыска; некоторые из книг она прочла по собственному почину, а не по совету друзей, — далеко не изысканные произведения, но она любила их именно за то, что узнала сама, без посредника, и цитировала их Реджинальду, который посмеивался над ее вкусами. Реджинальд нередко спрашивал о Люлю, — значит, и здесь также следовало произвести «работы по расчистке». Люлю перестала быть дочерью уборщицы, которую порекомендовала уборщица Гастона, которую, в свою очередь, привела к Гастону кухарка некоего Эрве, связанного с Нелли весьма неясными отношениями. Тут требовались срочные меры. Когда Реджинальд уезжал из Парижа, Нелли гуляла — всякий раз новым маршрутом; однажды она дошла до Бельвиля, поболтала с жителями Бельвиля, добралась до Пре-Сен-Жерве. Отчего бы детству малышки Люлю не пройти здесь, между этим тихим предместьем и холмами, с которых виден весь город? Все тамошние памятники подсказывали ей канву иной, новой жизни, протекавшей рядом с великими людьми, такими как Ришар Ленуар или Бланки[3], с событиями типа Коммуны, расстрела коммунаров или пожара Тюильри[4], надоевшего ей хуже горькой редьки во время бесчисленных посещений в обществе очередного кавалера Выставки декоративно-прикладного искусства.
Нелли готовилась не напрасно. Однажды Реджинальд заговорил. Но сказал он вовсе не то, что ей хотелось бы услышать, например: «До нас с тобой не было никого. До нас с тобой мы не существовали». Нет, он отнюдь не облегчил ей задачу. В один прекрасный день, сидя рядом с Нелли в кресле и словно забыв о том, что доселе краткие их свидания посвящались единственно любви, он принялся рассказывать ей свою жизнь. Комната тонула в полумраке. Слова Реджинальда звучали не признанием, они звучали исповедью. Но исповедью в таком ироническом тоне, с такими усмешками и подтруниванием над самим собой, какие не допускаются в исповедальнях. Он рассказал ей все о родном городе, о матери, о сестре. Нелли смущенно слушала, временами задавая вопросы о Невере, на которые прекрасно могла бы ответить сама, поскольку когда-то ездила туда на экскурсию с Гастоном. Она высоко оценила дар Реджинальда, его искренний порыв раскрыть перед нею всего себя, но как ей хотелось, чтобы он наконец замолчал! Она дрожала. Внезапный тоскливый страх оледенил ей душу. Она вдруг поняла, что исключена из круга тех счастливцев, кто может в один прекрасный день взять за руку любимого человека и поведать ему без утайки всю свою жизнь, словно чистую песнь, словно священный псалом; кто может выбрать в своей жизни любой день и, не унижаясь до лжи, свободно и смело восславить его яркими, возвышенными словами.