«Высокий ли, низкий, — сказал я жене, — денег не дам. Кто хочет жить, пускай сам наживает».
Да разве им втолкуешь? Тот, кто родился чабаном, в городе торчит, а городские сюда приезжают, учат нас, как пахать и сеять. Заставляем пчел давать уксус, а муравьев — мед, потому и мед подчас кислый, а уксус — сладкий.
Это я тебе говорю, жене я в тот раз ничего такого не сказал. Ей я сказал, что не могу оставить овес свиньям и что вернусь только после жатвы, если жив буду. Потому что кто знает, что мне подстроят кабаны. Сидят они сейчас наверху в роще и просят своего свинячьего бога: «Сделай, боже, так, чтобы этот старый хрыч убрался отсюда. Возьми его, боже, к себе, а мы овсом попользуемся». Им и в голову не приходит, что коли не будет меня, не будет и овса. Свинья — она и есть свинья: не думает, что посеять, а думает, что слопать. Поэтому в один прекрасный день они накинутся на меня, и загремлю я в овраг со своим бочонком. Услышишь, как что-то катится и гремит, — так и знай, что это отошел в лучший мир твой дядя Янаки, последний чабан и сеятель овса.
Перевод В. Викторова.
ГРАБЕЖИ И ПОДЖОГИ
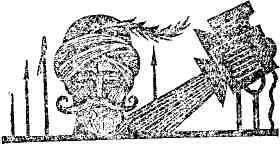
Думайте, что хотите, а я скажу: «Да здравствует кино!» Ну, пока была кавалерия и у нас покупали овес, село наше было из всех сел наипервейшее. Каждую осень приезжал к нам ротмистр, забирал овес и оставлял полный ушат банкнот. Потом мы погружали овес на мулов, и караван трогался вниз, к городу, со знаменем впереди. В цене был тогда овес, потому что овес — душа лошадиного корма. Я сам служил в кавалерии и знаю, что только от овса шерсть у коней гладкая, только овес делает их ретивыми, они тогда ржут и кусаются, разве что стрелять из карабинов не могут и «ура» не кричат. К сожалению, кавалерию сменили мотомеханизированные части, и овес сгинул. Пытались мы еще его удержать, но из района дали команду: «Никакого овса! И так у вас тут ручной труд с высокой себестоимостью. Ваше дело — картофель и табак».
Взялись мы за картофель, но тут откуда ни возьмись колорадский жук. Как он нас в нашей дыре отыскал, не могу тебе сказать, но с той поры кто чем занимается, а мы все с жуком этим воюем. Жгли его, давили, врукопашную на него ходили, какой только отравой его не посыпали — перед всем устоял, проклятый, и еще больше размножился. Каждое лето с ним возимся, а в конце то ли соберем, сколько посадили, то ли нет.
К тому же и людей у нас все меньше становится, молодежь в селе не остается, редеют наши ряды, нас уже по пальцам пересчитать можно. Новых домов, как в других селах, мы не строим, электричество вот только провели да резервуар для воды сделали. На наше счастье, все прочее осталось у нас как было, поэтому киношники устроили в нашем селе съемочную площадку для картин о Болгарии до Девятого сентября[9]. Искали они и там и сям, да где еще найдешь другое такое село! Крыши у нас крыты каменными плитами, улицы кривые, мощенные булыжником, и корчма как корчма, и мужчины носят потури. И как пошли нас снимать — остановиться не могут… Каких только картин не было. Почитай все картины, где что-то происходит до Девятого или в турецкие времена, снимают в нашем селе.
И поскольку снимают у нас, им сподручно оказалось и здешних жителей в массовках использовать. Это им, конечно, выгодней, чем возить сюда людей из других мест, зря деньги расходовать. И другой интерес тут есть (это мне сказал один режиссер, вернее, не мне сказал, а оператору). «У этих, говорит, лица аутентичные». Сначала я не понял, что означает это слово, плохо это или хорошо, и спросил учителя из Добралыка (нашу школу перевели туда еще в прошлом году, и своего учителя у нас нет), и он объяснил мне, что «аутентичное» — это деревенское, местное, какое было в свое время… Истинное, значит.
«Вы были, говорит, большей частью углежоги, потому ходите пригнувшись, чтобы вас лесник не заметил, а у городских — походка другая. Из городского деревенский не получится — ни статью, ни лицом не выйдет. Чтоб его кожа, говорит, стала, как твоя, надо, чтобы ее триста лет ваш лясковский ветер дубил. Потому, говорит, вы и аутентичные».
Потом я слышал еще, как режиссер советовал артистам: «Смотрите, как крестьяне держат руки. Они у них не в карманах, а за поясом — вот так», — и он заставлял меня показывать, куда совать руки, как водить мула, держа повод всей пятерней, а не тремя пальцами, как делал один из артистов, как сморкаться, как кашлять, как скручивать цигарку, чтобы было аутентично… Ну, если лицо не слишком аутентичное, парикмахерши его живо приведут в порядок — намажут чем надо, бороду прилепят, усы, разве только глаза, налитые кровью, не получаются. А какой же ты, к примеру, жандарм или башибузук, если глаза твои кровью не налиты и в них огонь не сверкает! Как только не мытарил нас режиссер с этим огнем! Кричит в трубу: «Огонь должен быть в глазах! Огонь!» Огонь — а где его взять, этот огонь? Мы уже люди в возрасте, поутихли, поослабли, присмирели. «Гляди, — кричит, — зверем!» Старается режиссер, а дело не идет. То, что в глазах сверкать должно, само по себе не получится. Надо, чтоб оно изнутри шло. И тогда мы нашли способ — опрокинешь рюмку анисовой, такой взгляд делается зверский — куда там! Иной раз так глаза кровью зальешь, что они уж и не открываются. А веки должны быть чуть приподняты, — режиссер объяснил, что башибузуки именно так смотрели.
Но и тут мы в конце концов наловчились.
Платят тебе пять левов за массовку, и живешь себе остальное время в свое удовольствие. Хотя это, конечно, не одно только удовольствие. И крутиться приходится — будь здоров. Здесь столпитесь, туда идите, стань тут, стань там, а теперь ругайтесь, глотку дерите… И слезы лить прикажут, и чего только еще не заставят.
То турки на нас нападают, то народ играем — партизанам встречу устраиваем, потом вдруг жандармами назначат, только на жандармов наши редко соглашаются, так им стали не по пять, а по семь левов платить. Ну, а я тощий и в кавалерии служил, поэтому мне три раза играть жандармов приходилось, но на четвертый — дудки. В последней картине — не помню: «Рак против рыбы» или «Рыба против рака», чудно́е такое название — я играл старшего жандарма, а потом, когда в город пошел налог платить, этот, в окошечке, меня и спрашивает: «А ты случайно не был полицаем до Девятого? Я тебя видел».
С тех пор я жандармов больше не играю…
Вот башибузуки — другое дело. Давние это времена.
Наши привыкли к такой жизни, во вкус вошли. Ученые люди вокруг, бородатые. И бабенки приезжают — юбки короткие, одно название, что юбки — а им хоть бы хны. Это тебе не колорадского жука травить.
Процветает наш промысел, хотя были у нас и неприятности с режиссерами. Захотели они привезти для массовки людей из города, чтоб не все одних и тех же снимать, но мы сказали: «Нет!» Перекрыли воду в резервуаре, ну и с электричеством тоже… Есть у нас неисправный обогреватель, а трансформатор и без того слабоват, — как включим — враз перегорает. Пока аварийка явится, день и прошел. Поняли режиссеры, что нет смысла с нами ссориться, и больше нас не обходят.
Да и привыкли они к нам. Сначала, когда друг с другом ругались, все в сторонку старались отойти, чтобы мы их не слышали, а сейчас прямо при нас ругаются. Большинство у них бородатые, тут не поймешь, кто кого главнее, но как схватятся спорить — полдня не разойдутся. Я заметил: когда оба бородатые, — больше ругаются. А когда один с бородой, а другой без бороды — споров почти не бывает.
Спрашиваю я одного безбородого, почему, дескать, так (выпивали мы вместе). «А это потому, говорит, что бородатые нас ослами считают. А с ослами — какой спор!»
Заметил я еще, что режиссеры с усами потише, а безусые и бритые погорячей и посноровистей. У них и деньгами особо не разживешься, и прохлаждаться не очень тебе дадут. Они больше на пожары да на грабежи налегают — мол, на картины с пожарами и грабежами народ валом валит.
9
Девятое сентября — день победы народного вооруженного восстания 1944 г.