— Берегись!
Я испуганно крутанулся к нему и увидел, как из темноты на нас стремительно надвигается какая-то черная громада, в которую упирается пучок трассирующих пуль из нашего корабельного пулемета.
— Все за борт! — рявкнул в мегафон капитан.
Но исполнить команду никто не успел: немецкая самоходная бронебаржа рубанула нас в борт острым стальным носом и, как топором, расколола нашу скорлупку надвое. Удар выбросил меня в море, и я, окунувшись с головой, забарахтался в студеной воде. Слышу: вроде Леонтьев где-то поблизости кричит:
— Плыви к берегу! К берегу давай!
Кое-как огляделся, увидел берег и давай загребать. Чую — коченеет тело. Вот-вот судорогой всего сведет. Гребу, колочу руками и ногами. Ударился обо что-то головой, ткнулся больно коленом, чуть не захлебнулся. Пригляделся — затонувшая баржа и сверху кто-то кинул канат, кричит: «Хватай, браток!» Уцепился я за канат мертвой хваткой. Двое матросов выволокли меня наверх. Я зубами стучу, сказать ничего не могу, только показываю в море, бормочу: «Там, там…» — а больше ничего. Ну, матросы, видать, привычные и без слов поняли.
— Что, — спрашивают, — еще есть живые?
— Ага-а! — отвечаю.
— Ладно. Ползи по сходням, на берегу обсушат, а мы тут твоих дружков на закидушку половим.
С баржи на берег широкий помост — сходни. Пополз я самым натуральным и постыдным образом. На берегу подхватили меня под руки, втащили в какую-то-землянку, сняли мокрую одежду, кинулись растирать сухой шинелью.
— Спиртом бы, — кто-то робко предложил.
— Спирт ему вовнутрь потребуется. А сейчас и сукна хватит.
Тут втаскивают в землянку Леонтьева, за ним — Пономарева и матроса-пулеметчика с катера. Принялись ребята и за них. Я уж начал орать и вырываться — так, черти, натерли шинелью, будто кипятком окатили.
А Леонтьев, чуть очухался, сразу рваться начал:
— Мешки там. Плавают. Я видел. Надо доставать, пока не потонули и не унесло.
— Какие еще к чертям мешки? — чертыхнулся моряк.
Тут и я спохватился.
— Братцы! — кричу. — Скорей дайте мне стаканчик спирту и пустите в море. Хлеб там! Продукты! Боеприпасы! В брезентовых мешках. Скорей, братцы!
Ну, я ж говорю, матросы здесь дежурили, видавшие виды. Сразу сообразили, в чем дело. Смотрю капитан-лейтенант вскочил, гаркнул:
— Аврал, братва! Весь спирт сюда! Кашин, Кондратенко, снять одежду! По кружке спирту! В воду марш!
И хлопцы как на пляж вылетели. А капитан-лейтенант ко мне:
— Лейтенант! Ты и впрямь можешь сейчас в воду?
— Могу.
— Тогда на пей спирток, и марш. А то хлопцы еще не сориентируются.
Глотнул я обжигающей жидкости, похватал воздух ртом, выскочил по сходням на баржу и ухнул в воду.
Показалось, будто в кипяток. Но потом вздохнул, поплыл. Вижу — горбится что-то на воде. Подплыл — мешок. Схватил я его за гузырь и буксирую к барже. Тут матросы уже наготове, выхватили груз баграми и меня зовут.
— Нет, — говорю, — самое во вкус вошел. Купаюсь в свое удовольствие. — Храбрюсь, а сам толком не пойму: голый я или одетый. Однако опять в море. Навстречу матросы еще два мешка буксируют.
Приволок я еще мешок и чувствую — все вокруг замельтешило, поплыло мимо. Хриплю:
— Ловите меня, братцы…
Выволокли меня матросы, ведут берегом, схватив под руки, в кубрик. Вижу: навстречу вылетает Пономарев в чем мать родила, мимо нас бегом и слышу — сзади бултых! Прыгнул в море. Втащили меня матросы в землянку (они ее кубриком называли), отдали двум хлопцам, орудовавшим в одних тельняшках, а сами — опять на причал. Растерли меня ребята, дали глоток спирта, и провалился я в темноту.
Проснулся, не пойму: где, что? Тепло, сухо, коптилка горит, какие-то полосатые черти печь, сделанную из трофейной бензобочки, шуруют — топят докрасна. А на мне навалены шинель, бушлат, еще какая-то одежда. Повернул голову — вижу рядом на нарах Пономарев и Леонтьев под таким же ворохом одежек храпят вовсю.
Хотел я рывком, по-молодецки вскочить, да не тут-то было: всего как огнем обожгло, а к спине будто доска привязана. И не хотел, а застонал. Кто-то из моряков оглянулся, подошел:
— Что, лейтенант, очнулся? Как чувствуешь после вчерашнего?
— Ох, — говорю, — проехался по мне кто-то. Бедная шкура и спина…
— Ясно, браток. Пройдет. Здесь, на Малой земле, все пройдет. А ты молодец, брат! Да и кореши твои — геройские ребята. Пятнадцать мешков выловили.
— А остальные?
Матрос развел руками.
— Больше не удалось. Немец шестиствольным накрыл. Мы двух братишек потеряли… Да… А хлебушек подсушили чуток и отправили в части. Ребята едят, подшучивают: «Солоноват. Должно от бабьих слез, что по нас проливают».
А я вспомнил девчат на геленджикском причале, что бегом носили мешки на катер, и… у самого слезы навернулись. Моряк заметил, положил руку на грудь, улыбнулся:
— Да не расстраивайся ты, браток. Тут у нас все время так. А вам еще здорово повезло: другие не только ничего не довезут, но и сами идут к рыбам. А вы — вон какие удачливые…
От этих его слов стало мне еще хуже. Укрылся я с головой, молча слезы поглотал, опять заснул.
Такой-то он был хлеб насущный у малоземельцев.
…Война продолжалась. Впереди еще был Эльтиген, Керчь и Севастополь, Курская Дуга, Днепр, Сандомирский плацдарм, Кенигсберг и Будапешт, Эльба и Берлин. Впереди еще была половина войны, трудная и героическая дорога к окончательной победе.
Суровые испытания предстояли еще Советской Армии и всему нашему народу, а вместе с народом и армией славному отряду воинов-чекистов.
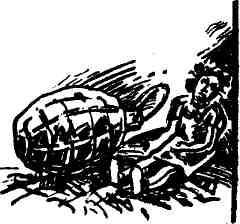
МОЛОДОСТЬ ТРЕВОЖНАЯ МОЯ

Петляет приморская дорога, ныряет под колеса автомобиля и словно в страхе убегает назад, вертко прячется за склоны ущелий, где-то далеко позади сверкает крутой дугою поворота, чтобы снова юркнуть за скалу, в зеленую тьму лесов. Горы тоже движутся, словно хотят обогнать, перегородить дорогу, упасть поперек и не пустить, не пустить дальше, в глубь благодатных бухт и заливов.
Но вот мимо окон проносятся здания санаториев и домов отдыха, городки пионерских лагерей, остался позади розоводымный Новороссийск, сверкнула солнцем Кабардинка. Со склонов к дороге сбегают стройные ряды виноградников, выстраивается каре фруктовых садов. Вот и Геленджик — солнечный город под вечной охраной круто нависшего хребта. Всегда нарядный и праздничный, он особенно хорош тихим вечером.
Когда стоишь на набережной, дышишь изумительным воздухом моря, ловишь веселую пляску огоньков на воде, начинает оживать прошлое…
Я смотрю на крепких широкоплечих парней, затеявших веселую возню на приморской аллее, на точеные фигурки девушек, слышу дробь их каблучков по асфальту, веселый молодой смех, а перед глазами другие парни и девушки — из нашего отдельного взвода. И вижу я, как сорок с лишним лет назад здесь, у обгорелого причала, стояли ряды санитарных носилок, как, балансируя на развалинах, санитары уносили эти кричащие, стонущие, хрипящие и молящие носилки, как бежала рядом с ними санинструктор Лида Слободина и, прыгая с камня на камень, уговаривала санитаров быть осторожнее. И чудится, будто вновь я лежу на том разбитом и сожженном пирсе, чувствую, как давит в спину попавший под носилки обломок кирпича, а надо мной высоко в утреннем небе гудит двужалая фашистская «рама» вся в белых хризантемах зенитных разрывов. И сидит рядом золотоволосая Люба Каминкер, ласково гладит мою вздрагивающую руку и щебечет, щебечет, щебечет…
А над всем этим гремит и перекатывается песня: зовут и плачут женские голоса, печально повествуют о чем-то теноры и баритоны, грозно рокочут басы…
Давно это было, но память сердца умирает только вместе с ним.