— Ты лучше сначала в письме бы написала. А то сразу телеграммой...
— Я, Володя, по делу, по маминому. Так-то мне было недосуг все.
— Ну, хорошо, хорошо! Досуг, недосуг... Когда только ты по-русски говорить научишься?
Сели в трамвай. Ехали долго, далеко за город, в какой-то заводской поселок.
— Я не могу с тобой в мужское общежитие. Пока гостишь, поживем у моего товарища. Он на лесозаводе завклубом. Квартира у него — что надо!
«Пока гостишь...» И по имени не называет. Все «ты», «с тобой», «тебе». Будто это и есть мое имя. О жизни, о здоровье, о работе — ни вопросика...»
У товарища жили в отдельной комнате. И, кажется, сдружились снова по-настоящему. Но надо было уезжать. Даже подумать было страшно, что уезжать-то надо опять в неизвестность, опять долгими ночами тоску тосковать по его рукам, по его губам, по всему, что есть в нем, дорогом, любимом...
Да, несмотря ни на что — любимом!
А Владимир снова горячо доказывал и ей и еще кому-то, — может быть, себе — свою правду. А правда вся была в том, что завистники очернили его перед руководством. Ему, Владимиру Обухову, оскорбленному и, конечно же, непонятому, пришлось уйти из хора.
— Я им докажу! — Владимир потемневшими глазами смотрел на Дашу, не видя ее. — Они еще спохватятся, когда Владимир Обухов выйдет на сцену оперного театра... Да, вот где я нашел свое место! Подумаешь, хор! Филармония-я! Они еще не знают Владимира Обухова!
— Володя, неужели приняли?!
Даша уже снова верила в него. Конечно же, он талантлив! Бывало, в Доме культуры все подружки с ума сходили по нему, все завидовали Дашиному счастью.
— Приняли, Дарюш, приняли, — как бы очнувшись, говорил он между поцелуями. — Теперь-то уж получу квартиру. Как мы заживем с тобой! Потерпи, уж немного осталось тебе прозябать в этой дыре.
— Маму тоже возьмем к себе? — сияла Даша, забывая все обиды и горе.
— И маму... И мою маму. И пусть живут себе наши старушки да радуются.
Когда он провожал ее домой, у обоих в глазах стояли слезы: Даше не хотелось расставаться, а Владимир, наверное, играл, как всегда.
Шли месяцы. Владимир писал неохотно и мало. Письма все больше походили на жалобы. Ему, видишь ли, и в театре не дают дороги потому-де, что «некоторые» боятся его конкуренции. Он довольствуется пока «амплуа статиста». Все из-за того, что он талантлив более, чем хочется «некоторым».
Владимира всегда почему-то окружали завистники и бездари.
Даша не особенно ясно представляла себе, что такое «амплуа статиста», но понимала, что это не нравится Владимиру. И жалела его, писала, что приедет, успокоит, что все в конце концов будет хорошо, только бы они любили друг друга.
Он отвечал на такие письма быстрее обыкновенного. Советовал подождать, не тратиться. Сам он вот-вот нагрянет к Даше в деревню.
Такие письма — хотя они-то и были самыми нежными — били прямо по сердцу, и Даша в тревоге ходила с красными от ночных раздумий глазами. Мама ничего как будто не замечала. У нее все ладно да все хорошо. И когда Дашу стало мутить от одного вида пищи, мама вроде бы не очень обеспокоилась.
Вот почему было страшной неожиданностью, когда она пришла ночью к дочке в постель. Долго они лежали рядом. Мама молча гладила ее по голове, как ребенка, наконец сказала непреклонно:
— Этого не смей изничтожать! Пусть живет, вырастим.
Кудесница-мама! Она даже знала, кто должен появиться на свет. Раз как-то за утренним чаем Даша дрогнула вся и осторожно поставила недопитое блюдце на стол, словно к чему-то прислушивалась. Мама оглядела Дашу и улыбнулась той своей хорошей улыбкой, какую Даша редко видела у нее и, наверное, потому особенно любила.
— Куда он тебе толкнул? — спросила мама.
— Вот сюда...
— Неужто в левый бок? Под сердце?
— Да, как будто.
— Вот и хорошо. Девку жди.
Можно было смеяться над бабьими приметами, но вышло по-маминому: родилась девочка. Видно, недаром была когда-то у мамы куча детей. А осталась только Даша: и так помирали, и на сплаве один утонул, да и война двоих взяла. Но у мамы и сейчас голова не белеет. Только глаза из синих стали серо-голубыми да тело «ссохлось все», как она сама говорила.
А Владимир и дочери своей не видал. Даша перед тем, как родить Ирочку, нашла деньги, поехала в город снова. Думала обрадовать отца.
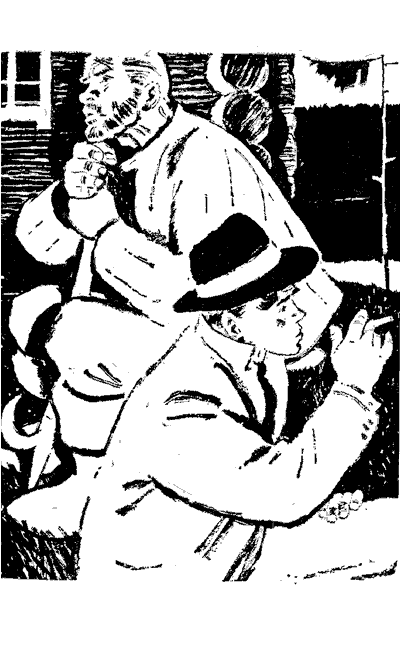
Не обрадовала.
Зачем же он теперь сидит под ее окном? О чем они могут говорить с Романом Фомичом?
...Владимир снова повернулся к Бальневу:
— Чем же это кончилось, Роман Фомич?
Сухие длинные руки Бальнева все так же устало лежали на багре, сутулая спина и приподнятые плечи служили как бы продолжением пня.
Казалось, он вырастал из пня, подобно сказочному мужичку-лесовичку.
— Что кончилось? Ничего не кончилось, тогда-то все и началось только. Конца и сейчас не видать. — Бальнев говорил монотонно, глядя в одну точку и головы не повернул, точно не хотел показать собеседнику своего худого, бледного лица. — Не надоело, так слушай, — продолжал он, как бы осердясь и на Владимира и на себя, что очертя голову разоткровенничался с незнакомым человеком.
— Нет, что вы! Наоборот, — сказал Владимир.
— Наоборот... Так и получилось все наоборот. Я хотел поиграть да и дальше... Только нет, голубок! Вообще, скажу тебе, если кто стал бы мне толковать: вот, мол, как дело было, — ни в жизнь не поверил бы! — Бальнев вздохнул. — А ты хошь верь, хошь нет. Я только рассказываю, вспоминаю, что ли, сказать. Мое место, милый человек, около тебя сейчас телячье: помычал, поел и на соломку. А твое дело хозяйское: не любо — не слушай.
— Да что вы!
Но на возглас Владимира Бальнев не обратил никакого внимания и продолжал:
— Был тогда у нас в роте, прямо сказать, народ всякий. Но хуже меня, как я теперь прикидываю, вряд ли... Не найти было. Однако выискался-таки один плюгавый такой солдатишко, ростом поменее моей Гали. Он-то и сыграл с нами заглавную ноту. Беда, коли природа обидела человека! Тогда у него все кругом виноватые. Такой не спустит и полшутки, а за надсмешку и вовсе горло может перекусить. Я по веселости своего характера частенько над ним пошучивал. С моего поганого языка прозвали недомерка-солдатишку «аршин без вершка». Он и затаился. А сам, хитрюга, за мной вприглядку жил. И представь: все, как есть, узнал про мое с Галей соленое счастье. Узнал бы да смолчал, тогда и ему и мне одна цена, а узнал да донес — другая.
Вот раз иду я к своей любушке. Только, значит, я в комнату, а тут — пых! — и Галя следом. Я понятно, рад бесподобно, рот до ушей, глаза, надо быть, дурацкие, губы, конешно, к ней тяну... Вспоминать противно! А она, простая душа, хитрить-то не может, не умеет, ну и сразу мне в лицо: «Бальнев... Ты... ты...» — Хотела, видать, высказать правильно: «Подлец, мол», — да тут губы у нее затряслись.
И подает она мне, значит, письмишко. Беру. Почерк, виданный раньше, а подписи нет. Стал читать. И с первой строки понял: «Он! Аршин без вершка». Да ведь как выписывает, пигалица! И женат-де Бальнев уже не на одной, и даже еще лишнего ребенка ко мне приписал. Вот ведь иуда!
«Это правда?» — спрашивает Галя. И не дай и не приведи господи кому услышать такой голос! Хотелось, вишь ты, ей, чтобы писание это враньем обернулось. Клеветаньем, что ли сказать.
Да разве я мог ей еще раз соврать! Ну, само собой, она и без моих объяснений все правильно определила и тихонько да строго так говорит: «Вон!» — И на дверь показывает.
Поверишь ли, до чего мне сделалось страшно? Ровно я должен с яра вперед башкой на камни прыгнуть... Чего бы тут дальше с нами было, не сказать, но, спасибо (хотя куда, к черту, спасибо-то говорю!), где-то неподалеку бомба взорвалась, и другая, и третья.
Галя глянула в окно, крикнула, будто ее за горло схватили: «Госпиталь бомбят!»
А сама оклемалась маленько и — бегом. Я за ней.