— Зита, помешалась ты на травах. Молодой парень, вот и кожа молоденькая.
— У Кирки кожа, по сравнению с его, и то грубая. Что же ему, девять лет, по-твоему?
Я незаметно провела пальцами по лицу, но ничего грубого не обнаружила.
— У него кожа, как у грудного ребенка. У Гали Рассказовой я видела братика трехмесячного, так у него тоже такое личико розовое. Что же в этом хорошего? Дядька, а с таким лицом!
Тетя Зита посмотрела на меня с завистью и сказала:
— Кира, Кира, счастливая ты. Ничего ты еще не понимаешь.
— Чего тут не понимать: вы с мамой хотите быть красивее. Только маме зачем это? Она и так…
Но мама сделала такое страшное лицо, что красивой ее назвать сейчас было невозможно.
Тетя Зита взялась за ручку нашего купе и сказала:
— А я у него спрошу про лицо. Вот увидишь: у него бабка.
— Зита, неудобно. Стыдно, наконец, о таком спрашивать.
— Спрошу.
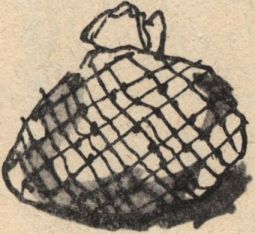
Борис Сергеевич спал в рукавицах. Так спят маленькие дети, забыв отложить игрушку. И я вспомнила бабу Аню, как она легла в Москве на мое место и зажмурилась. Про детей я немножко знаю. Наш класс шефствовал над детским садом. Недолго совсем, в порядке эксперимента. Закончилось шефство коллективным ревом детей при дежурстве Вити Казакова. Он собрал им железную дорогу. Она давно была сломана, и детишки играли с отдельными вагончиками, пуская их не по рельсам, а так, по полу, вручную. Витя пустил состав по всем правилам: вагончики бежали за паровозом по кругу, останавливались по Витиному приказу и опять шли. Все было бы хорошо, но дети захотели поиграть сами.
«Не дам, — сказал им Витя. — Опять сломаете».
Витя стал играть один. Состав бежал по рельсам, в воздухе Витиным голосом гудел немецкий самолет. На состав падали бомбы-фишки. Потом он стал бросать в вагоны мячи. Дети давно хором ревели от обиды, но, когда шеф, сраженный снарядом, упал взаправду и зашиб мальчугана, вбежала воспитательница, схватила его за ухо и, доведя до передней, сказала: «Чтобы духу вашего здесь не было!»
За день до этого случая дежурила я. Мне достался «тихий час». Дети лежали в кроватях.
«Тетенька, мне туфелька жмет». — «Какая туфелька? Меня звать не тетенька, а Кира. Спи». — «Тетенек так не зовут. Тетя Кира, сними мне туфельку».
Я откинула одеяло. Девочка легла спать в зашнурованном ботинке. Я долго развязывала шнурок. Пришлось растягивать узел зубами.
«Тетя Кира, у тебя есть детки?» — «Какие еще детки, нет», — ответила я испуганно. «Значит, ты не тетенька».
«Дядя Кира, дядя Кира!»
Я обернулась. На соседних кроватях сидели детки по трое и больше. Только на дальней лежал ребенок и плакал. Я подошла к нему. Под одеялом было еще что-то большое, кроме ребенка. Мальчуган спрятал под одеяло грузовик и порвал об него рубашку. Дети стали бегать босиком, визжали. Вошла воспитательница. Сказала строго, как гипнотизер по телевизору, которого мы с бабушкой видели в передаче «Здоровье»: «Спать. Всем спать. Закрыть глаза и спать».
Детишки мигом нырнули под одеяла, старательно стали жмуриться.
«Иди домой, девочка, ты им спать мешаешь», — выпроводила меня воспитательница.
Мама и тетя Зита шептались. Когда они говорили громко, я не слышала, точнее, не слушала, а теперь невольно отвернулась от окна.
— Я сразу подумала: рукавицы на нем неспроста, — шептала тетя Зита.
— Он, когда снимал рюкзак, такие рожи корчил забавные, кто бы мог подумать? — отвечала мама. — Что мы, не люди? Помогли бы.

Я посмотрела на спящего. Брезентовая рукавица с правой руки дядьки немного спустилась, обнажая белоснежные бинты.
— Мам, помнишь, у папы руки в крови были и лицо?
— Помню, с верблюдом боролся. Только, — мама улыбнулась тете Зите, — на Николае ни царапинки не было. Верблюд подбородок об крючок на брюках себе распорол. Давил Николая, а сам расцарапался.
— Ты рассказывала мне, я помню… Не могу больше, Тамара… — Тетя Зита возмущенно посмотрела в окно. — Будет конец когда-нибудь нашей бесхозяйственности? Июнь месяц — они пашут. В других районах уже урожай скоро снимать будут. Мало этого: светло, а они с зажженными фарами, хоть бы здесь экономили… Насколько я понимаю в технике, от этого садятся аккумуляторы. А сюда их доставлять не так-то просто…
— Ты права, Зита, они садятся! — согласилась мама.
— Их заряжают, — поправил Борис Сергеевич.
Я была тоже согласна с тетей Зитой. Но как я потом радовалась, что не успела ничего сказать и молчала…
— Милые женщины, чем героев критиковать, давайте лучше чаю попьем.
Он уперся в свою и соседнюю полку локтями и спрыгнул к нам.
— У нас проводница чай по настроению своему выдает, — сказала мама.
— А мы закажем по два стакана, она и заварит. Осилим?
Борис Сергеевич вышел. Мне он очень нравился. Только неприятно, если тетя Зита права и он, мужчина, так следит за своей кожей. Мне увиделось, как он сидит перед зеркалом и натирает кремом лицо, смазывает руки.
Хорошо, что Борис Сергеевич вернулся, а то бы я еще «увидела», как он красит себе волосы.
— Все как в аптеке. Чай готовят. Хорошо вовремя хотеть. Она как раз для всех заваривает. Мне и просить не пришлось.
— Почему вы скрываете бинты? — строго спросила тетя Зита.
— Зита, смотри какой куст, — пыталась отвлечь ее мама.
Борис Сергеевич растерялся даже сначала и стал оправдываться:
— Я не скрывал. Просто запачкаются… Хочу домой к жене с чистыми руками, то есть с чистыми…
— Вы уже женаты? — не унималась тетя Зита.
— Зита, ну гляди ты…
Я видела, что маме неловко.
Мне тоже такая решительность маминой подруги не нравилась. Хотя меня всегда привлекало смелое поведение людей, на которое я не была способна.
— Давно женат. Дочери семнадцать лет. И очень люблю свою жену. Дочь тоже. Но жену больше. Просто боготворю жену.
Я бы на месте Бориса Сергеевича просто разозлилась бы. А он отчитывается с юмором, беззлобно, не стараясь обидеть тетю Зиту.
— А что у вас с руками?
— Ошпарился. Я повар.
— Опрокинули кастрюлю? — спросила мама как-то через силу. Я знала: мама никогда не была любопытной. Когда спрашивала одна тетя Зита, было неловко. Она выспрашивала, словно допрашивала. А когда спросила мама, получилось, будто они втроем разговаривают и никакого назойливого выспрашивания нет. Я очень любила сейчас свою маму и гордилась ею почти так же, как тогда папой в ЦПКиО.
— Кастрюли я не опрокидывал. Я хороший повар, — улыбнулся Борис Сергеевич.
— И скромный, — тоже улыбнулась тетя Зита.
— Сюда плохих не посылают. Зато я оказался плохим помощником тракториста…
— Чай, печенье? Вафли? Есть лимоны.
— Все давайте! Кира, достань у меня в кармане кошелек.
Я поняла, что так надо, и спокойно полезла к нему в карман.
— У нас есть, — засуетилась у сумки мама.
— Позвольте мне быть мужчиной. Или я совсем есть не буду, — обиделся он.
Я положила ему сахар в стакан, стала размешивать.
— А можно еще сахару?

Я давала ему откусывать от вафли. Стакан он поднимал ко рту сам. Мне казалось, что я медсестра, а он раненый.
— Так вы оказались плохим трактористом, — не забыла тетя Зита.
— Трактористом я не был, это приятель мой Юра Казаков…
Я даже вскрикнула:
— Ой! А я его знаю. Он из Ленинграда?
— Да.
Я невольно посмотрела в окно, уже с любопытством, на тракторы. Мама и тетя Зита тоже стали вглядываться, словно ожидая увидеть за окном знакомых.
— Он провожал меня. — Борис Сергеевич тоже поглядел в окно.
— Он брат Вити Казакова из нашего класса. Он сдает экзамены или зачеты раньше других студентов и второй год уезжает весной на целину.
— Приезжает Юра четвертый год. А как работает! Это там, у нас на месте, надо видеть. Жарища. Пыль на зубах хрустит. Рубашка от пота колом стоит. Да, все у нас работают на износ: спят часто в кабинах, покемарит часок — и опять мотор включает. До постелей некоторые и дойти не могут. Обед и воду прямо к машинам им подносим. Сами просят, чтобы время зря не тратить, а мне кажется, многие выйти просто не в силах. Я Казакову воду принес, а у него трактор стоит, от мотора дым идет. Я Юре ковшик с водой подаю, а он показывает на трактор и говорит: «Ему воды надо». А самому и не вылезти из кабины, вижу. Спросил у меня: «Залить воду сумеешь?» Я и соврал, что сумею. Ошпарился не вовремя.
Всегда, глядя на машину, я и видела только машину. КамАЗ или трактор, автобус или легковая, красивая или так себе. Транспорт всегда был для меня чем-то вроде одушевленного предмета. Будто сам по себе, без людей движется. Конечно, иногда замечаешь шофера. Это когда переходишь дорогу не по правилам и шофер обругает тебя, или, если шофер знакомый, тогда его, конечно, замечаешь. И тут, глядя из окна на бесчисленные тракторы, я ни разу не подумала, что там, внутри их, сидят люди, пока Борис Сергеевич не назвал Юру Казакова.
— Работа тяжелая, бесспорно, — сказала мама, — только мне непонятно: сейчас уже лето — извините, кто же сейчас пашет? Это всегда делается весной.
Борис Сергеевич немножко с сожалением посмотрел на маму:
— Работников не хватает. Земли много. Пропадает она. А даже сейчас засеют — и еще успеет вырасти на ней хлеб.
— Это понятно, — вмешалась тетя Зита, — но вот светло сейчас, а у них фары зажжены… И заметьте: сколько едем — тысячи машин и у всех зажжены фары. Это ведь чистой воды бесхозяйственность. Согласитесь!
Борис Сергеевич еще больше порозовел лицом.
— Видите, шлейфы пыли тянутся кверху за каждым трактором? Это издали нам в чистом вагоне кажется, что шлейфы обходят тракторы стороной. На самом деле они и при включенных фарах работают почти на ощупь… В кабинах пекло, ребята мокрые, от пыли саднит в легких, не прокашляться… А это много-много часов за рулем надо выдержать.
Сейчас ползущие тракторы напомнили виденные мной фильмы о войне, когда все поле усыпано танками. Я сказала:
— Будто в кино битву показывают.
— Ну, это и есть битва. Только за хлеб, Кира. А на поле — герои.
Борис Сергеевич посмотрел мне в глаза. Лицо розовенькое, какое-то ненастоящее, а глаза серьезные.