Межа


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

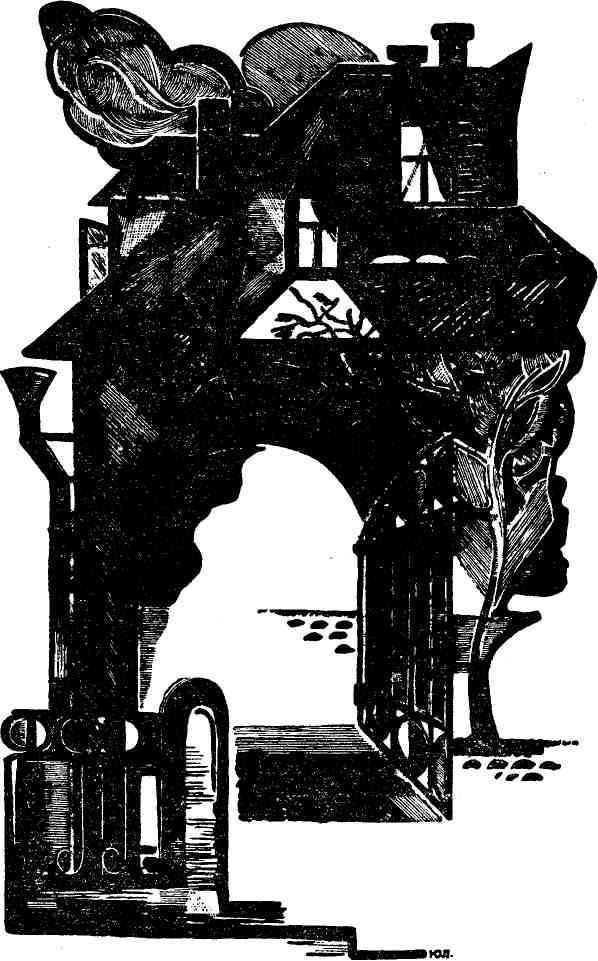
I
С четвертого этажа ей хорошо были видны и прилавки, еще полупустые, и голубые фанерные ларьки с еще закрытыми ставнями, и мясной ряд, где разгружались говяжьи туши; ей хорошо был виден весь рынок, уже наполненный первыми покупателями, но Шура смотрела только на одного человека, на Егора Ковалева, неторопливо пересекавшего базарную площадь. Шура каждый день смотрела на него в эти утренние часы. Одетая, готовая идти на работу, она подходила к окну и, только когда Егор, пройдя по тротуару, скрывался за углом высокого серого здания, брала сумочку, торопливо запирала дверь и, стуча каблучками модных остроносых туфель, поспешно сбегала по лестничным пролетам; ей тоже нужно было поспеть к девяти на службу, тоже пересечь базарную площадь и скрыться за углом высокого серого здания. На стене этого здания, как раз под окнами второго этажа, горела огромная реклама «ДАМСКИЙ САЛОН». Она почему-то горела чаще по утрам, чем по вечерам. Но, может быть, это только так представлялось Шуре, потому что по вечерам она не любила сидеть дома и тем более подходить к кухонному окну. Синий фосфорический свет букв всегда вызывал у нее неприятное ощущение холода, ей казалось, что люди не проходили, а пробегали под рекламой, будто попадали в полоску дождя, и только Егор в этой толпе спешащих людей шагал так же невозмутимо и неторопливо, не ежась и не поднимая воротника плаща, как вообще ходил в любую погоду: в дождь, в снег, в бурю. Сейчас он еще только-только миновал мясной ряд; он был одет сегодня по всей форме, на нем темный милицейский мундир с белыми офицерскими погонами. В мундире он выглядел стройнее и выше, но Шуре больше нравилось, когда он надевал гражданский костюм. Первый раз, когда она увидела Егора, он был в гражданском костюме; и, хотя с той встречи прошло уже почти полтора года, Шура хорошо помнила, как он вошел в то утро к начальнику отделения. Она как раз принесла на подпись стопку новеньких, раскрытых на первой странице паспортов, и подполковник милиции Богатенков старательно выводил на зеленоватых, еще не захватанных пальцами листках свою неразборчивую подпись; она помнила все подробности: как Егор остановился у стола и на приглашение Богатенкова присесть ничего не ответил, а стал молча и внимательно разглядывать кабинет, стены, стол и склоненную седую голову подполковника; несколько раз Егор взглянул и на нее, и удивление скользнуло по его лицу. Он был в черном костюме, белой рубашке и черном галстуке; белое лицо, черные волосы, черные брови, черные глаза; белое и черное — именно этот контраст, эти резкие грани двух цветов поразили Шуру, и потому она особенно запомнила первую встречу. Она не знала тогда, что стоящий у стола молодой человек в черном и белом будет работать в отделении следователем, что она каждый день будет видеть его в служебных коридорах, в тесном подвальном буфете в обеденные часы, на собраниях; что, разглядев его поближе, сперва даже, немного разочаруется, потому что и волосы у него не такие смолистые, как показалось ей в первый раз, а брови хотя и черные, но очень широкие даже для мужского лица. С чисто женской придирчивостью она вдруг обнаружит, что и галстук он не всегда повязывает безукоризненно, а иногда приходит и вообще без галстука, и не всегда у него начищены туфли; тогда, в кабинете подполковника милиции Богатенкова, она не подозревала, что этот стройный молодой человек в черном и белом, с удивлением взглянувший на нее, станет самым желанным для нее человеком, что она будет прислушиваться к его словам, резким и смелым, искать с ним встречи и ради него ответит решительным отказом добродушному толстяку — старшему научному сотруднику из архивного управления, который ей нравился, с которым она провела немало приятных вечеров, прослушала немало хороших опер, потому что он был страстным поклонником театра, и даже была близка с ним, серьезно подумывая о совместной семейной жизни, — даже этому толстяку, который ей нравился и который настойчиво предлагал назначить день свадьбы, она ответит решительным отказом, захлопнет перед ним дверь и потом будет рвать все его записки, не читая.
Она стоит у окна и смотрит на базарную площадь; ей не хочется вспоминать, но она отлично помнит и первую встречу в кабинете, первое знакомство и первый проведенный с Егором вечер, когда однажды вместе возвращались с дежурства.
В тот вечер они долго сидели в сквере на скамейке, в тени низких, подрезанных кленов, и Егор рассказывал о своих жизненных наблюдениях. Его слова были далеки от любовных признаний, какие Шура привыкла слышать от мужчин, напротив, это был всего лишь сухой, деловой рассказ следователя, его взгляд на жизнь, на события, совершавшиеся вокруг, но чутье женщины подсказывало ей, что, если мужчина делится своими мыслями, какими бы они ни были, — это сильнее всяких любовных признаний. После этого разговора она еще настойчивее стала искать встреч с Егором; она ловила каждую его даже невзначай оброненную фразу; когда он говорил: «Как мы живем! Как работаем! Мы же не умеем самостоятельно мыслить!» — ей казалось, что он произносит новые, во всяком случае, никогда прежде не слышанные ею ни от кого слова; а когда утверждал: «Мы, именно мы, в ответе за все, что делается в стране», — с восхищением смотрела на Егора.
Но недавно, когда Егор рассказал, может быть, правдивую, может быть, выдуманную им самим историю, как в какой-то восточной стране люди за одну ночь очистили свой город от разного рода бродяг, спекулянтов, пьяниц и проституток, Шура ужаснулась; она вдруг почувствовала, что молодой следователь не только дерзок, но и жесток. Правда, жестокость Егора была объяснимой: в ту ночь в отделений произошло несчастье — на одной из окраинных улиц хулиганы убили дежурившего на посту милиционера Андрейчикова. Труп Андрейчикова лежал в морге, а у них, в паспортном отделе, говорили, будто постовой жив и находится в больнице, а потому Шура не испугалась, узнав об этом событии. За годы работы в милиции, хотя она была всего лишь сотрудницей паспортного стола, Шура привыкла к разным неожиданностям; ей не страшен был и убийца, которого она, проходя через двор и поднимаясь на крыльцо, увидела в то утро — его вывели из камеры в наручниках, по бокам шли два милиционера; она с жалостью посмотрела на жену Андрейчикова, худую и ссутулившуюся от горя женщину, которая с двумя детьми — одного держа на руках, другого ведя за собой — торопливо прошла по коридору к подполковнику Богатенкову; встревожилась Шура, лишь когда заметила, что у Егора перебинтована рука. Он дежурил в ту ночь, участвовал в задержании убийцы, в темноте натолкнулся на проволоку и проколол ладонь. Он стоял среди следователей и оперуполномоченных, бледный от бессонной ночи, взволнованный, прижимая к груди перебинтованную руку, и с возмущением и гневом говорил: «Полумеры не воспитание, мы сами растим убийц; не на пятнадцать суток, а на все пятнадцать лет надо удалять хулиганов из общества!» Именно здесь, в дежурной комнате, слушая Егора, Шура пережила несколько неприятных минут.
Она вошла как раз в тот момент, когда Егор только-только начал рассказывать. Говорил он громко, и в голосе его звучали нотки злорадства; он явно восхищался жестокостью; он особенно подчеркивал, что адреса притонов и курилен, списки торговцев опиумом, бродяг, хулиганов, воров, адреса и списки проституток — все это было составлено заранее с предельной точностью, потом была назначена ночь, назначен даже час арестов. Сотни грузовиков работали всю ночь, вывозя из города к причалам арестованных; их, всех этих воров и проституток, грузили на баржи и отвозили далеко в море; их расстреливали из пулеметов, установленных или на корме, или на носу, и счищали с палуб, как грязь, как ненужный хлам. Шура слушала, съежившись, прислонившись к стене; в ее воображении возникали картины той страшной ночи, о которой рассказывал Егор; она видела, как люди в мундирах врываются в дома и притоны, хватают с посмели женщин, выбивают из рук курильщиков трубки с опиумом; слышала шум мчавшихся грузовиков, крики, визг, ругань, ее обдало холодом, когда она представила себе, как метались все эти люди — воры, проститутки, может быть, не все, наверняка не все заслужившие такой участи, — метались по слабо освещенной фонарем палубе между черной морской бездной и желтым клокочущим огоньком пулемета, падали, корчась в судорогах, и потом их тела, обмякшие, притихшие, вывалянные в крови, выкидывали за борт. Ей было страшно представлять эту картину. «Они же люди, живые люди, — думала она, — как можно так с людьми! — И вглядывалась в лицо и глаза Егора. — Нет, он все это преувеличивает, он раздражен. Убили Андрейчикова, из-за угла, ножом, и он ловил убийцу. Он ранен, у него рука в бинтах…» — продолжала она. Вместе с тем, как перед глазами ее все еще стояла ужасная картина той ночи, о которой говорил Егор, в памяти возникала и разворачивалась другая: как хозяйка дома, у которой Шура когда-то снимала квартиру, топила в ручье щенят. Она принесла их в мешке и вывалила на берег; слепые, беспомощные, они разползались по траве, жалобно скуля и двигая мягкими лапками, и хозяйка ногой швыряла их в воду. «Тетенька! Тетенька!» — кричал кто-то на противоположном берегу, и в ушах Шуры стоял теперь этот отчаянный и призывный крик. «Нет, он не такой», — говорила она себе, не в силах более ни видеть, ни слушать Егора.