История моей любви
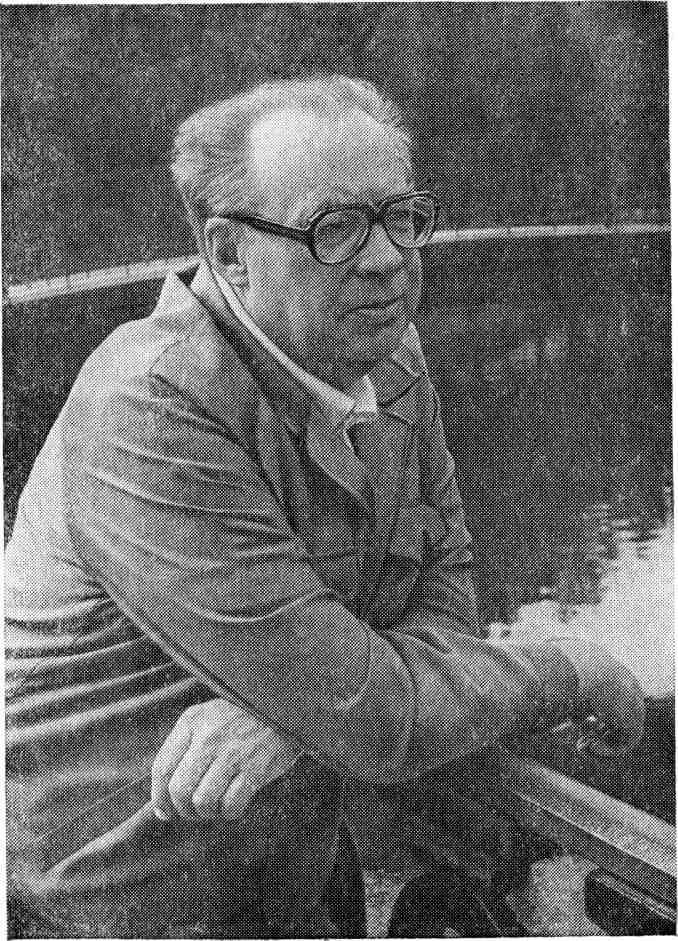

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЛЮБВИ
Роман
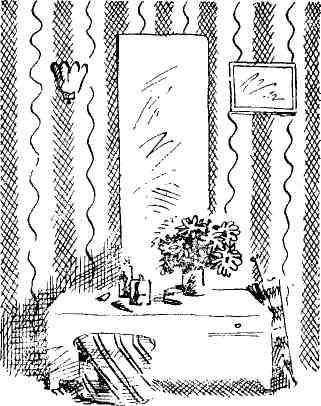
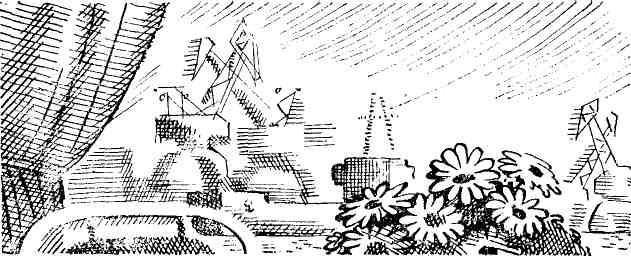
1
Оглянусь я иногда на свою жизнь, и мне хочется то смеяться, то плакать… Сколько же я дров, как говорится, по собственной молодой дурости наломала, пока поняла, в чем мое счастье, пока наконец-то обрела его! И глупа я была, и легкомысленна, и ни о чем задумываться не умела, как и бывает в юности, а жизнь-то — сложна… Как я теперь понимаю, и красота моя, и домашнее воспитание, и даже здоровье — я ни разу в жизни ничем серьезно не болела — все это способствовало образованию моего самоуверенного, энергично-напористого характера. Но он уживался, как ни странно, с удивительной доверчивостью к жизни и людям, воспитанной во мне родителями.
А главное-то в любви, оказывается, душевное родство: его не может заменить ни интимная близость, ни внешняя красота любимого, ни материальное благополучие, ни даже общий ребенок.
Хорошее у меня детство было, легкое и беззаботное, каким ему и полагается быть.
Часто мне вспоминается, как по воскресеньям утром мы втроем — отец, мама и я — сидим за столом и пьем чай. В нашей двухкомнатной квартире тепло, уютно и как-то особенно надежно. А чистота такая, что ею даже будто пахнет в воздухе… Только что побрившийся отец в белой рубашке, натянувшейся на его широченных плечах, спокойно улыбается, глядя на нас с мамой. И мне очень приятно видеть его большое скуластое лицо, ласковую улыбку, по-доброму прищуренные серые и зоркие глаза… Отец работал сталеваром на заводе, и я, маленькой, помню, все удивлялась: он долго и тщательно мыл руки, а в складках кожи все равно оставалась металлическая пыль, точно черная паутина. Высокая, статная и очень красивая мама — она работала в одном цехе с отцом, только в инструменталке — разливала нам чай и тоже улыбалась удовлетворенно. Ее пышные русые волосы причесаны умело и ловко; большие голубые глаза в густых ресницах весело поглядывают на отца; на румяных щеках от улыбки — глубокие ямочки. На мне тоже нарядное платье, которое мама не разрешает надевать в будни; мама сама умыла мне лицо, а потом тщательно и красиво заплела волосы в две косы, на конце их повязала банты.
Я не помню, конечно, о чем разговаривали отец с мамой за этим утренним чаем, чему смеялись, но ощущение праздничной приподнятости и уверенной легкости решительно во всем в жизни, которое бывало всегда за столом у нас, я отчетливо чувствую и сейчас. Уже потом я поняла, что отец с мамой по-настоящему любили друг друга; всю неделю они работали, и вот утром, в выходной, когда можно никуда не торопиться, оба были просто счастливы тем, что они сейчас вместе, что они молоды и здоровы и все у них в жизни надежно и правильно. Это чувство счастья моих родителей, которое я ощущала давным-давно, еще ничего не понимая и не умея, конечно, объяснить, было таким сильным, что запомнилось мне на всю жизнь как одно из самых ярких впечатлений моего раннего детства. И много лет спустя их отношения оставались мерилом для меня, когда и я сама оказалась в такой же ситуации.
И второе, что я так же отчетливо запомнила из того своего раннего бессознательного детства: я живу лучше многих ребят в нашем дворе. У меня есть все игрушки, какие только могут быть у Светки Муромцевой, дочки профессора. И одета я лучше всех, потому что у Светки вещи только покупные, а моя мама сама умеет и любит шить и вязать, у меня первой во всем нашем большом дворе появляются поэтому самые модные шапочки или блузки. К тому же мои родители — самые красивые в нашем дворе. Светкина бабушка прямо-таки налюбоваться на них не может, когда они идут вдвоем. И мой отец никогда не пьет, только по праздникам чуть-чуть, я даже ни разу не видела его пьяным. Это не то что отец Борьки Залетова, который после каждой получки еле бредет по двору, пошатываясь и ругаясь. Борькина мама откровенно завидует моей, прямо так и говорит:
— Тебе, Клава, чего не жить с твоим Григорием! Зарабатывает хорошо, как Муромцев, и всю получку домой приносит. И у тебя самой мастерство в руках, женщина ты трудовая, живешь уверенно, еще дочку принцессой воспитываешь. А у меня, подружка, и пьяный кормилец на плечах висит, и Борька-сорванец без моего глаза по улицам носится, и сама уж я забыла, когда губы помадой красила: работа, дом, скандал да снова работа.
Мама сочувствовала Полине Сидоровне, а я убеждалась, что мы, то есть Лавровы, живем лучше всех, даже гордилась этим.
И третье, что мне тоже на всю жизнь запомнилось из моего дошкольного детства, была ссора с Катюшей Шамовой. С одной стороны — обычная, а с другой… Или потому, что неожиданной она для меня оказалась, или потому, что отец чуть ли не впервые так строго выговаривал мне за нее, долго объяснял, в чем я виновата; и мама больно отшлепала меня, и все повторяла:
— Навсегда запомни, Анка, что унижать человека — нельзя!..
Петр Петрович Шамов работал в одном цехе с отцом и мамой, и тоже сталеваром, а Мария Ивановна — нормировщицей; и, кроме Катюши, у них было еще два сына — Вовка и Витька. Теперь Катюша уже кончила консерваторию, сейчас она пианистка, я как-то видела по телевизору концерт с ее участием. А тогда она была молчаливой и тихонькой девочкой, чуть что — сразу смущалась и краснела до слез. Я-то, в противоположность ей, и в те далекие годы была до крайности энергичным и боевым существом, запросто дралась с мальчишками в нашем дворе и частенько возглавляла детские мероприятия, иногда и весьма рискованные по мнению наших родителей. Поэтому получилось так, что Катюша оказалась при мне в роли ординарца, что ли…
И вот однажды мы с Борькой Залетовым, тоже весьма энергичным ребенком, решили залезть в подвал нашего дома и выяснить, что же в нем такое, почему он всегда закрыт. Дело еще и в том, что некоторые ребята — и мы с Борькой тоже — находились в состоянии холодной войны с нашей дворничихой тетей Шурой. Из-за любой мелочи она обязательно приходила к нашим родителям и жаловалась, долго, подробно и со смаком рассказывала, что именно мы натворили. Со двора в подвал можно было попасть через узенькое оконце. Первой пыталась протиснуться в него я, но мне не удалось, как я ни силилась, хоть Борька и помогал мне. Сам он — еще пошире меня в плечах. Был ноябрь, и даже лужи подмерзали уже, но я — делать нечего — сняла шапку, пальто и кофточку, осталась в одной блузке, полезла заново. От старательности только в кровь разбила нос да оторвала рукав от блузки, но в оконце не пролезла. И тут мы с Борькой одновременно поглядели на Катюшу: она была куда меньше и тоньше нас, наверняка могла пролезть в подвал. Она поняла, к чему идет дело, заплакала и кинулась бежать, но мы с Борькой, конечно, легко поймали ее, силой притащили обратно к подвалу. Мы с Борькой для надежности все-таки сняли с нее шапку и пальто, даже свитер, а потом стали заталкивать Катюшу в оконце подвала. Она уже не могла плакать, только временами сильно и неудержимо вздрагивала всем телом. Не знаю, чем бы это вообще кончилось, потому что и Катюша никак не пролезала в оконце, но тут неожиданно появилась тетя Шура. На руки подняла обессилевшую Катюшу. Лицо у нее было в крови, глаза закрыты, она уже и плакать не могла. Тогда тетя Шура сама заплакала, стала целовать Катюшу. Она открыла наконец глаза, поглядела на нас с Борькой, сказала:
— Вы злодеи! — и разрыдалась, ткнулась лицом в грудь тети Шуры.
Катюша простудилась так сильно, что у нее оказалось воспаление легких, она пролежала в больнице больше месяца, мы с Борькой даже боялись — не умерла бы она! К нам домой пришла тетя Шура, а родители Катюши — они ведь в одном цехе с моими работали — рассказали обо всем отцу с мамой. И вот как-то вечером после ужина отец долго курил, пристально разглядывая меня, и никогда еще я не видела у него такого сердитого лица. Это, помню, даже испугало меня, но еще сильнее то, как мама вдруг тихонько и жалобно стала всхлипывать, тоже разглядывая меня так, будто впервые видит.