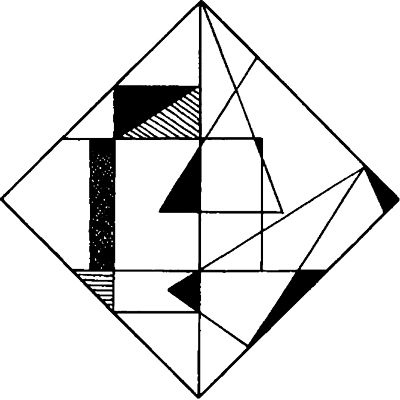
Ночь он проспал беспробудно, без сновидений, и проснулся рано — солнце ударило в глаза. Он забыл вчера задернуть штору, окно выходило на восток, и, как только солнце поднималось над домом напротив, оно сразу заполняло комнату плотным, осязаемым, казалось, на ощупь светом.
Он проснулся легко, разом и разом же увидел все — шоколадно-серые цветы на обоях, телевизор в углу, будильник на ночном столике, розовый шар лампы над головой — так резко и отчетливо, что зажмурил глаза не от хлынувшего в комнату солнца, а именно от этой резкой отчетливости предметов. И сразу почувствовал нетерпение какое-то лихорадочное, необходимость немедленно вскочить с постели, куда-то торопиться, что-то предпринять, от чего-то защититься.
Но он не сразу сообразил, в чем дело, и, только обшарив взглядом комнату и увидав на телевизоре белый прямоугольник конверта, все вспомнил, собрал в кулак: разрешение ОВИРа Бенедиктову Юрию Павловичу на выезд из СССР для воссоединения с семьей.
Он сел на кровати, паркет холодил ступни — солнце еще не успело нагреть пол, да и какое в начале апреля солнце… Начало апреля, восьмое число, весна, на деревьях, он видел в окно, уже набухли ранние почки, вот-вот брызнут из них упрямые, торопливые листья. Весна, потом будет лето, все будет, было всегда, как было тысячу тысяч раз: весенняя Москва, летняя Москва, осень, зима и опять весна, только не будет уже тут его, Бенедиктова Юрия Павловича.
В комнате было холодно и неуютно, как бывает лишь весной, когда прекращают топить, холод шел от пола, от стен, особенно от немой, без привычного зимнего булькания и воркования, батареи: одного взгляда на стылый ребристый металл было довольно, чтобы тебя пронял озноб. Но солнце за окном уже совсем весеннее, веселое, и небо тоже весеннее, налившееся ясной, беспримесной синевой.
Он встал, протопал босыми пятками к телевизору, взял конверт, вернулся к постели и снова укрылся одеялом, но желание перечесть письмо прошло, он просто держал его перед глазами, рассматривая яркую марку: космический комбайн «Союз-Аполлон».
— Жребий брошен, — выплыло безо всякого смысла из памяти, — Рубикон перейден. — И совсем уж невпопад: — Карфаген должен быть разрушен.
«Образование, — подумал он, — Момзен, „История Рима“. Плутарх, Светоний, Сенека, Тит Ливий, Тацит. А в результате — белый конверт, табула раза, дальняя дорога…»
Бенедиктову было сорок четыре года, начинать все сначала — он это знал — уже поздно, никаких иллюзий, никаких надежд на то, что там он сможет начать все сначала. А ехать — уже не миновать.
Еще вчера, да, вчера, до четырех часов дня, когда он, вернувшись домой, обнаружил в почтовом ящике этот овировский конверт, — еще вчера он надеялся, хоть и не признавался себе в том, что получит отказ, что все останется как было. Ну пусть и не совсем как было, но он все же увидел бы, как московская весна перельется в московское лето, осень, зиму — и опять наступит весна, он нашел бы какую-нибудь работу, с голоду не подох бы, в нашей стране никто с голоду не подыхает, он что-нибудь придумал бы, выкарабкался как-нибудь…
Еще вчера.
Месяц на сборы, на то, чтобы продать книги, мебель, чтобы съездить в Одессу к сестре и на могилу мачехи, — могилы отца он не знает, не знает даже, была ли у отца могила или же он похоронен в наспех вырытой в вечной мерзлоте яме вместе с другими заледенелыми трупами. А могилы матери и вовсе не отыскать — война, фронт, военврач, краткое извещение: «Пропала без вести». Месяц на то, чтобы распроститься с друзьями и, собственно говоря, с самим собой, каким он был и каким знал себя до вчерашнего дня, — месяц, чтобы оборвать все нити, перерезать все вены и артерии, кровь будет вытекать, медленно дымясь, алая венозная и черная артериальная, или наоборот, он не помнит точно. За все про все — один короткий месяц.
Он натянул одеяло на голову, лег на бок, подтянул колени к животу. В какой это стране хоронили мертвецов именно в такой позе, на боку, с согнутыми в коленях ногами?.. Но вспомнить не мог. Хорошо сохранившиеся останки неизвестного происхождения, установить не представляется возможным. Тесная могилка, уютненький склепик — чисто, сухо, тепло. И в изголовье — ничего: ни креста, ни полумесяца, ни шестиконечной звезды, не говоря уж об имени и фамилии, гражданстве, месте и времени рождения, национальности, профессии, социальной принадлежности, избирался — не избирался, состоял — не состоял, ненужное зачеркнуть. Кроме металлической «молнии» от ширинки, никаких иных предметов быта или культа не обнаружено. Особых примет — тоже, если не считать некоторого утолщения (мозоли, нароста) на третьей фаланге среднего пальца правой руки, косвенно указующего на долголетнее пользование орудием типа «вечное перо».
Вечная память.
И все же он встал, принял душ, побрился, вымыл после завтрака посуду — привычное дело, заурядные заботы, размышлять при этом можно совсем о другом или вовсе ни о чем. Он подумал, что сейчас единственное его спасение в том, чтобы жить именно так: не размышляя, не задумываясь, не видя и не оценивая себя со стороны, а складывая жизнь, сопрягая ее из обыденных, простейших, как детали детского «конструктора», действий и поступков, неизбежных необходимостей, в которых ни ум, ни сердце не участвуют. Простейшие арифметические действия, сложение, например, при котором за слагаемыми, за самим процессом сложения не разглядеть итоговой суммы.
Он оглянулся через плечо, увидел себя в ледяной зеркальности шкафа: сорок четыре, ни годом меньше, но и не больше, вполне еще благопристойный мужчина, вступивший в лучшую пору зрелости, прекрасная пора, очей очарованье. Прекрасная форма, завидное здоровье, твердое положение в обществе, спокойный взгляд в будущее, удовлетворенное честолюбие, удачливость в делах — вот что прочел бы в зеркале любой сторонний наблюдатель, любой непредвзятый соглядатай. Но сам-то Бенедиктов знал, что заключенный в глубине зеркала его двойник был вовсе не им, Бенедиктовым, а кем-то совершенно другим. Словно отражение в гладкой и холодной поверхности отделилось от оригинала, чьим нелицеприятным повторением ему надлежало быть, как бы даже отреклось от него, выставив в насмешку над ним лишь то, что сам оригинал старательно напяливал на себя, чтобы быть — как все.
Ведь отказывали же в выезде другим, некоторые по году, а то и дольше живут «в отказе», а он, не прошло и месяца со дня подачи заявления, получил этот конверт с разрешением! Он, который еще вчера так надеялся и даже был уверен в глубине души, так убаюкивал себя возможностью отказа, иллюзией незыблемости своего суверенного права на свободу выбора хоть в самое последнее мгновение!..
Но и тут он лгал себе. Нет, не лгал, а просто видел — вот как сейчас увидел бы его самого в зеркале чужой, равнодушный взгляд — не полное, трехмерное отражение правды, а лишь двухмерное, без перспективы и глубины, усеченное ужасом перед свершившимся и теперь уже непоправимым фактом.
А факт заключался в том, что самый его поступок был отнюдь не свободным выбором между чем-то и чем-то, а всего лишь неотвратимым итогом событий и обстоятельств, от него не зависящих и им не управляемых. А стало быть, и мнимый этот выбор, и самый поступок были несвободны, обескровлены с самого начала.
И не только его отражение в зеркале отреклось от него, Бенедиктова, но и сам он, приняв это решение, отрекался не просто от родных пенатов, друзей, привычек, привязанностей, но и от самого себя прежнего, того, кем он был, каким себя знал.
И все же он теперь испытывал некоторое облегчение, словно свалился камень с плеч, тяжесть непосильная упала с души — еще вчера за ним как бы еще оставалось некое подобие последнего слова: я передумал, я беру свое заявление назад, я остаюсь! — и сама эта возможность мучила неопределенностью, таила в себе пытку сомнением, а сегодня все уже позади, сегодня он уже бессилен что-либо изменить, Рубикон перейден, корабли сожжены, от Карфагена осталось одно пепелище. Облегчение пришло вместе с такой опустошенностью, с такой тусклой усталостью, с таким безразличием к тому, что будет с ним там, что, звоня по телефону Паше Ансимову, он сам поразился равнодушию собственного голоса: