И когда около нее резко, с каким-то истерическим визгом притормозил мотоцикл (в тот первый раз без притороченной к нему виолончели; потом-то они преотлично приспособились ездить втроем: он, Ольга и виолончель) и некто в защитном шлеме и очках во все лицо сказал традиционное в подобных случаях: «Вам куда?» — Ольга, в полнейшем цейтноте, взобралась на заднее сиденье и, обхватив за талию спасителя-мотоциклиста, помчалась с ним на адски тарахтящей машине — предназначенной, как заметила впоследствии мать, больше для самоубийства, чем для безопасного передвижения, — сначала по Ленинградскому проспекту, потом по улице Горького (по Тверской, как бы непременно уточнила покойная бабушка), по Садовому кольцу до Зубовской и направо, к своему второму медицинскому.
В тот день она впервые села на мотоцикл.
Ей это пришлось по душе.
Когда он домчал ее до института, она едва удосужилась бросить ему на ходу «спасибо».
Даше если бы она и обернулась, то лица его все равно бы не увидела — он так и не снял очки и шлем.
Но у нее и обернуться-то не было времени. Точнее, ей это и не пришло в голову.
За весь день она ни разу о нем не вспомнила — ни сидя на лекциях, ни на лабораторных, ни к вечеру, когда, совершенно выдохшаяся и измотанная, вышла из института.
Однако самое необъяснимое во всей этой истории заключается в том, что, не вспомнив о нем ни разу за весь день, Ольга ничуть не удивилась и даже сразу, без малейших колебаний, узнала его, когда, выйдя из института, обнаружила, что он ее ждет на том самом месте, куда доставил утром.
Она ждала любви — и вот любовь явилась, что ж тут удивительного?!
Она удивилась лишь его лицу, когда увидела его без очков: ей показалось, что именно его — с этим его лицом, с этими рассыпавшимися на обе стороны прямыми черными волосами и с этим смугло-розовым, словно бы светящимся изнутри румянцем, с его, наконец, мотоциклом и виолончелью, — одним словом, что именно его-то она и ждала.
Вот это-то полнейшее, как ей теперь казалось и в чем она мгновенно, но раз и навсегда, на веки веков, уверилась, совпадение ее ожиданий с нежданно нагрянувшей реальностью ее и поразило.
К тому же, как выяснилось, его звали Олег, и это имя ей тоже показалось давно знакомым, полным некоего тайного, устойчивого значения, другого имени у него и не могло быть.
Случилось так, что в тот же день, к вечеру, когда заходящее городское солнце неспешно изливалось на прощание на Москву-реку, на Нескучный сад на противоположном берегу и на притихшую после часа «пик» Фрунзенскую набережную, отец ехал на своих «Жигулях» цвета «коррида» на лужниковские корты. Он ехал по широкой, пустой набережной и думал бог весть о чем.
И когда навстречу ему на строжайше наказуемой правилами дорожного движения, вплоть до лишения водительских прав, скорости — навстречу ему и мимо него — пронесся бешеный мотоцикл с двумя седоками, в этот короткий, почти иллюзорный миг, когда мотоцикл и «Жигули» поравнялись и умчались в противоположные стороны, отец успел увидеть и запечатлеть, как на моментальном фотоснимке, в памяти смуглое, сосредоточенное и даже чуть нахмуренное от напряжения и ответственности лицо парня в шлеме за рулем, а из-за его плеча, прижавшись подбородком к этому плечу и всем телом — к спине парня, которого она тесно обхватила руками за талию, счастливое и чуть испуганное, испуганно-счастливое от бешеной этой скорости и тугого ветра лицо девушки с разметанными, летящими как бы отдельно от нее пепельно-бронзовыми волосами.
И в то же мгновение отец безошибочно, до острой и сладкой боли, сжавшей безжалостной рукой его сердце, узнал в этой девушке с разметанными волосами — не свою дочь, нет, — а свою собственную юность, свою первую, с такими же испуганно-счастливыми глазами, любовь, а в парне — самого себя, того давнего, с рыжеватой бородкой и длинными, по плечи, волосами, повязанными вокруг лба шерстяной ленточкой, что делало его похожим не то на бойкого мастерового, не то на древнерусского ратника.
Хотя, собственно говоря, у отца никогда, ни в юности, ни после, не было мотоцикла и он никогда не мчался на нем с недозволенной скоростью с девушкой, всем телом тесно прижавшейся к нему и с разметанными по ветру волосами.
Единственное, о чем он успел подумать в этот краткий, мгновенно умчавшийся в прошлое миг, — это о том, что парень превышает скорость, а это рано или поздно добром не кончится, и что первый же «гаишник» оштрафует его и за скорость, и за то, что на девушке не было шлема.
Это он подумал, а всему остальному — молодости, скорости, бесстрашию и испуганно-счастливым глазам девушки — успел всего лишь позавидовать.
Хотя, как уже упоминалось выше, он был по природе совершенно не завистлив.
А на следующий день умер Чип. Точнее, той же ночью.
Утром мать вошла в бывшую бабушкину комнату и увидела, что Чип лежит на дне клетки на спине, лапками кверху.
Он умер конечно же от старости, но всем — отцу, матери, Ольге и даже не менее их печалившейся по этому поводу второй отцовой теще — пришло в голову, что умер он потому, что все написанное ему на роду и приговоренное судьбою прожить, увидеть, быть свидетелем или даже не побоимся опять этого слова, участником, — все это имело место и осуществилось, и теперь он был вправе с чистой совестью и чувством исполненного долга, от которого он никогда не уклонялся, тоже уйти.
Чип пел, пока пелось, и о том, о чем пела его душа, и ни разу не сфальшивил. И умолк он тогда, когда петь ему стало больше не о чем.
Он имел полное право уйти.
Чипа уложили в картонную коробку — это с ним, как упоминалось выше, уже однажды было, — на этот раз из-под духов «Южная ночь», выложенную изнутри ватой, и на белизне ваты он опять казался празднично-желт, и вновь стал похож на кованного из червонного золота андерсеновского соловья с теперь уже навсегда сломанным музыкальным механизмом в грудке.
Коробку обернули в оставшуюся еще от деда чертежную кальку, перевязали крест-накрест розовым шнуром, обнаруженным на самом дне бабушкиного, все еще не до конца разобраного шкафа, среди старых и совершенно уже никому не нужных безделок, которые просто не поднималась рука выбросить.
Похоронили его за городом, в лесу, на двадцать третьем километре Минского шоссе. Поехали вчетвером — отец, мать и Ольга на отцовых «Жигулях» цвета «коррида», а сзади, на своем мотоцикле с притороченной сбоку виолончелью, Олег. Был конец мая, лес уже зеленел распахнуто и просторно, невдалеке пел первый майский соловей — живой, не андерсеновский.
Отец достал из багажника саперную лопату и, кряхтя с непривычки, вырыл яму под старой, лохматой сосной с темной почти до черноты хвоей. Копать было нелегко, мешал слежавшийся за долгие годы плотный слой мертвой хвои, он пружинил, и никак было не добраться до земли.
Когда яма была вырыта, коробку с Чиповым телом — хотя, очень может быть, в данном случае как раз было бы уместно слово «прах» — положили на дно, Ольга засыпала ее землей, потом старой, тускло-бронзовой, как и Ольгины волосы, хвоей, затем отец и мать наломали свежей и укрыли ею могильный холмик.
Олег все это время стоял чуть поодаль, в стороне, и не мешал им.
Они постояли втроем — отец, мать и Ольга, — молча, думая каждый о своем.
Но им так только казалось — что каждый о своем, на самом деле они думали об одном и том же.
Потом они пошли к машине, а Олег к своему мотоциклу, и поехали обратно, в Москву.
Думали же они о том, что вот — кончилась одна жизнь и надо начинать другую.
В том смысле, что надо жить.
Но об этом — ниже.
Роман: ПОМИНКИ
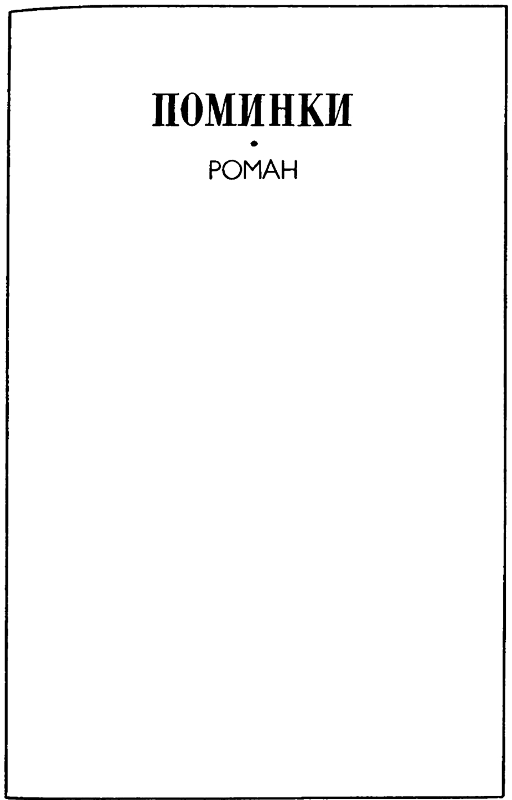
…и тут он вдруг понял, что ведь и это было частью того же самого — это яростное желание, чтобы они были безупречны, потому что они для него свои и он для них свой, эта лютая нетерпимость к чему бы то ни было, хоть на единую кроху, на йоту нарушающему абсолютную безупречность, эта лютая, почти инстинктивная потребность вскочить, броситься, защитить их от кого бы то ни было всегда, всюду, а уж бичевать — так самому, без пощады, потому что они свои, кровные, и он ничего другого не хочет, как стоять с ними непреложно, непоколебимо; пусть срам, если не избежать срама, пусть искупление, а искупление неизбежно, но самое важное — чтобы это было единое, непреложное, неуязвимое, стойкое одно: один народ, одно сердце, одна земля…