Борису Житкову
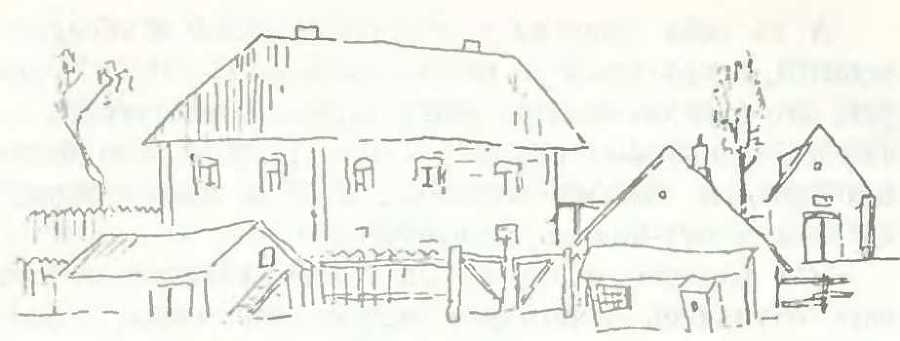
Наш город — одна обида. Это такой город, что в нем нет ничего замечательного. Дома самые что ни на есть обыкновенные.
Я думаю, что на наш город всем наплевать. Никто его не знает. Вот на картинках в книгах — разные города интересные. Настоящие города. То там горы над крышами высоченные, а то река и мост какой-нибудь весь из клеточек, как кружево. А названия какие — Лиссабон там или Калькутта!
А вот наш город так называется, что лучше не говорить. Такое названье, что с тоски помрешь.
И вокруг скучно.
В других странах — смерч бывает или наводнение, а то слоны водятся, а то люди черные.
У нас был один кузнец — все я думал, что он негр. А он не негр. Все у нас какое-то незамечательное. Вот я знаю, что есть Питер, а не так далеко Москва. Я нигде не был, а про Америку читал и про Париж. А иногда у меня бывают такие мысли, что я из книг знаю — за такие мысли многие люди знаменитыми сделались и гениями. Карточки ихние в журналах напечатаны.
А на себя взгляну в зеркало, — такой я обыкновенный, некрасивый и незамечательный. И я уверен, что если бы портрет мой в журнале напечатать — так не вышло бы: пятно — и все. Досадно мне было и обидно и так мне хотелось, чтоб в нашем городе случилось что-нибудь замечательное.
Вот раньше, когда я был совсем маленьким, так еще случались некоторые интересные вещи. Один раз была такая радуга, какой, я думаю, и в Америке не бывает. Смотрел я на радугу и не знал, что это такое, только было мне так хорошо, что я в роде как летел, и все колыхалось и сняло. Или вот река — у нас есть река, грязная, по колено. А раньше была серебряная. Реку было видно из переулка и лодочки черненькие по ней. Как заплывет лодка за переулок — я перебегу напротив, и мне опять лодку видно. А то такое было: стояли против нашего дома извозчики ломовые — лошадей поили. Лошади были огромные — не меньше слона, я думаю. Теперь таких чего-то и нет. Так одна лошадь как заржет, да как подымется на дыбы высоко-высоко, до солнца! Я так думал, что она головой в солнце ударилась, — так замелькало все и засветилось, — я даже упал.
С тех пор вот уж годов пять: я уже учусь, и все стало самым обыкновенным.
Был вот только такой случай,[1] пожалуй, что немножко замечательный. На улице-то было совсем обыкновенно: жарко — и мы в бабки играли. Только вдруг как-то все всполошились, закричали:
— Гляди, гляди!
И все бегут.
Я смотрю: идет человек весь в черном и весь блестит и с тросточкой, а сзади поодаль мальчишки гурьбой, рты разинув. Человек ближе, усы закорючечками, на нас не смотрит и тросточкой фортеля такие выделывает.
И мне тогда подымалось: вот оно замечательное-то!
И верно. У нас такого человека еще не бывало. А ребята друг друга в бока пихают, да шопотом жужжат:
— Шапка-то ведром!
— Цилиндер, дурак!
— Эй, Семка, какой это? Юдка это?
— Иди ты, самотелый, у Юдки борода углом. Что, ты не видишь? Юдка — аптекарь!
— Гля, ребя, колечек-то, колечек!
— Бареточки-то! ну, бареточки!
И верно, бареточки были такие, что не расскажешь.
Цилиндр у нас в городе есть — у аптекаря, у Юдки. На вывеске у него написано: Гершельзон — но вывеску никто не читает. Если скажешь любому: купи лекарство у Гершельзона — не поймет, удивится: где? у кого? у какого? Ну, скажешь: у этого, у Юдки. Во засияет! Был бы хвост, так завилялся бы как у собачки. Эхо потому что Юдку в серьез не ставили. Был он в роде как нарочно. Больно уж ни на что не похожий: в цилиндре! Каждую субботу и воскресенье Юдка гулял в цилиндре.
Правда, Юдкин цилиндр был не такой блестящий и не такой большой. А у этого дяденьки цилиндр был громадный, как паровозная труба. Дяденька притом же и дымил толстенной папиросой.
Но цилиндр все мы знали по Юдке, а вот таких бареточек у нас в городе не бывало. Блестели они, как само солнце, и то и чудно было, что были они черные-пречерные и не скрипели. Без каблуков, а носик чудно обрезался, а что самое чудное, так у них не было и подметок. В роде как чулки мягкие-премягкие и завязаны бантиком. И шел он весь такой блестящий, и из-под ног от бареток точно серебряные искры. И мне тогда показалось, что вот этот человек уж наверно напечатан в каком-нибудь журнале. Да, вот какой случай.
Идем мы за ним, и мне только одно было удивительно: как этот замечательный человек может итти по такой обыкновенной улице. Да к тому же на самом краю города; еще три — четыре дома — и дальше уже ничего нету: крапива. На него посмотреть, так точно он из Америки или из Лиссабона, а идет мимо самых что ни на есть обыкновенных домишек. Тут и домишки-то были самые бедные; в два окна, а на окнах плесень какая-то разноцветная.
А необыкновенный дяденька все идет.
— Да куды же он в крапиву-то!
И мне так обидно за наш город и за то, что он тут кончается и кончается так скверно — такими что ни на есть гнилыми домишками.
А ему хоть бы что: идет и идет. Нас мальчишек за ним штук двадцать. Посмотрел я на улицу — гляжу, высыпало: где тетка — руки под передником, где вся калитка забита головами. Таращатся. Укулины Федоровны собачонка залаяла было, так та на нее мигом цыкнула:
— Уймись, оголтелая. Я те ужо!
Так улица и застыла, разинув рот. А дяденька шел и точно швырял вокруг себя искры.
Дошел он до самой последней избушки, самой развалившейся, самой черной, Палагеи Пяткиной избушки. Дальше уже крапива.
Все мы так и замерли… Ну, думаем, куда? куда?
А он, как ни в чем не бывало, возьми да и поверни к этой самой Палагеи Пяткиной избушке. И через канаву перемахнул, словно он каждый день ее перепрыгивал.
Бареточка только покривилась тут как-то, и подумалось мне, что как-то неладно покривилась.
Сама Палагея, растрёпища грязнущая, не хуже других пялилась на этого дяденьку. А как видит, канаву перемахнул и на нее прямо идет, — что с ней и сделалось!
Как отлетит назад и давай козу свою вперед толкать, словно спрятаться за нее хочет.
Коза тоже видно по-своему, по-козьи, дивилась на черного дяденьку, а как видит, больно близко чудо-юдо такое, — назад!
И понесло тетку! Мелко-мелко ножками брыкает назад, назад, да как хлоп, посреди двора! Села тетка — и пыль дымом!
Рассказать — так вот длинно выходит, а на самом деле мигнуть стоило.
Оглянулся я кругом, не только мальчишки, а и большие и тетки разные, а сзади Митрий Михайлов и даже дядя Молодя тут.
А главное, смешно ведь. Тетка полетела коза верещит, а никто ни смешка…
Разиня рты все смотрят, что дальше будет.
А черный дяденька в баретках блестящих вошел во двор и вдруг заговорил, да так, как никто не откидал, то есть самым что ни на есть нашинским обыкновенным образом:
— Ну, матка, так ты меня острамила перед всей честной публикой, что я и поздоровкаться с тобой не возможен.
Как сказал, всё вдруг так и затихло, даже коза унялась. Я думал — всё провалится, и только спустя минуту Митрия Михайлова сын растолкал теток, да как бросится к приезжему:
— Э, братцы! Да это Пашка! Пашка, собачий ты сын, ты что же своих-то не узнаешь?!
Все так и ахнули.
Вон оно что. Так это Пашка! Самый что ни на есть наш — из нашего города зимогор Пашка!
Вот какие дела. И в нашем городе бывают штуки необыкновенные.
Только зря, видно, Митрия Михайлова сын руганул его. Пашка узнал всех. Ему только, видать, с маткой прежде хотелось поздоровкаться а уж от маткинова дома в со всеми. Для форсу, что ли?!
Стоит Пашка с Митрия Михайлова сыном, папиросами угощаются.
— Мы, — говорит, — брат, теперича в императорских по балетной части в актерах.
Ой-ой-ой! Вот так сказал!
Мне так как-то жутко стало даже! Вот дела какие. И подумалось мне, что непременно где-нибудь в журнале Пашкин портрет напечатан, и подписано наверно: «…в императорских…» и все что там нужно. Вот, думаю, когда настоящее-то время в нашем городе наступило.
1
События, о которых здесь говорится, произошли вскоре после японской войны и революции 1905 года.