Прасковья остановилась и заморгала глазами. Щеки ее покрылись бледностью и грудь волновалась.
-- Схватила я ее на руки. Милая ты моя, голубушка ты моя! -- уже упавшим голосом и с остановками продолжала Прасковья. -- А она вытаращила на меня глазенки, -- у ней такие большие глаза-то были. Уставилась на меня, словно спрашивает: "Что же это, мол, такое?" А там опять как закричит: "Маменька, больно..." Зажала я рукой спину ей да домой. Принесла, положила на лавку, стала глядеть...
Лицо Прасковьи покрылось краской и глаза налились слезами. Голос совсем пересекся, и она смолкла. Мельничиха и Анна жалостливо глядели на нее, а девка у шкафа загородила рот рукой и стояла, потупившись, с главами полными слез.
-- И долго она мучилась? -- спросила Анна.
-- До самого вечера. Сперва-то кричала, металась и все твердила: "О, мамушка, больно! О-о, больно". Потом моченьки-то уж не стало, стала как плеть и только откроет временем глаза, упрется это в меня, словно я ее это убила -- и опять закроет. Все сердце она у меня этим взглядом-то выворотила...
Прасковья не удержалась и начала глухо взрыдывать. Девка вдруг сорвалась с места и бросилась из комнаты. Мельничиха поглядела ей вслед и утерла концами платка набежавшие на глаза слезы...
IV
Обедали порознь. Сначала приходил Савостьян. Мельничиха наливала ему горячих щей, клала белой, не упревшей еще каши, и он ел наскоро, усердно дуя и часто хлюпая, чтобы остудить обжигаемый "поднаряд" во рту. Он часто припадал к высокой глиняной кружке с квасом и, напившись, опять ел. От еды у него приливала кровь к щекам, и щеки, покрытые мучной пылью, казались лиловыми, а борода -- совсем седой.
Наевшись, он отваливался, вставал, тяжело крестился, натягивал одежину и делал цигарку. Закуривши, он выходил из кухни медленно, раскидывая по сторонам глазами, и шел снова в амбар.
После Савостьяна приходил Тихон Иванович. Теперь за обед садились уже всей семьей. Иногда приглашали кого-нибудь из приезжих близких знакомых и родственников.
На этот раз обедали одни. Тихон Иванович в начале обеда всегда был сосредоточен, угрюм, мало разговорчив, но по мере того, как наедался, он делался благодушнее, веселее, в нем пробуждалось желание поговорить, он прицеплялся к чему-нибудь и начинал.
Взглянувши на жену и дочь, он подметил, что они чем-то рассеяны. Тихон Иванович встревожился.
-- Что это вы такие?
Мельничиха вздохнула и, вставая из-за стола, направляясь в кухню за кашей, проговорила:
-- Так, ничего.
-- Как ничего, а я не вижу?..
-- Расстроила тут нас одна: рассказывала, как у ней девочку убили.
-- А-а, -- протянул, успокаиваясь, Тихон Иванович. -- Я думал, что у нас случилось.
-- А это нешто случай?.. Сердце переворачивается.
-- Ну, на погосте жить, да по всяком покойнике тужить -- слез не напасешься...
-- Это не всякий; ты бы послушал...
-- А я мало слыхал... Меньше твоего?
-- За что только страдают?.. Господи!.. Неповинная душа...
-- Не наша с тобой.
Мельничиха чуть не вскрикнула, у нее зарделись щеки и загорелись глаза.
-- Вот тоже скажет!.. Неужели только своих и жалеть? Жалко всех мучеников.
-- Теперь она не мучается.
-- Не мучается, а матери-то каково?
-- У матери еще будет.
-- Удивительно, что ты за человек стал! -- уже с негодованием воскликнула мельничиха и ударила руками по бедрам.
Тихон Иванович спокойно ел кашу. Он ел не как Савостьян, а медленно, тщательно пережевывая. Наевшись, он утер полотенцем рот и, откинувшись к стенке дивана, почесывая рукой голову, проговорил:
-- Сама себя раба бьет, коль не чисто жнет; и пенять тут не на кого.
-- Как же не на кого? Зачем они стреляли-то?
-- Они стреляют, а ты не подвертывайся. Две собаки грызутся, а третья не приставай.
-- Да если бы она это знала?
-- А не знала, так будет знать; другой раз умнее будет.
Мельничиха волновалась все больше и больше, слова мужа ее раздражали.
-- Чурбан ты, как я вижу! -- с негодованием воскликнула она. -- Тебя как борова -- хозяин в закром посадил, а он весь свет забыл.
Тихон Иванович внимательно поглядел на нее и промолвил:
-- Какой был, такой и остался; только больше живешь -- больше понимаешь.
-- Ничего ты не стал понимать.
-- Нет, понимаю. Умному тот кусок мил, от какого откусить можно; а где взять нечего, я своего сердца надрывать не стану...
И довольный, что он ловко выразил свою мысль, и чувствуя свое превосходство, Тихон Иванович поднялся с дивана и снова стал одеваться.
1909
ОТЧЕГО ПАРАШКА НЕ ВЫУЧИЛАСЬ ГРАМОТЕ?
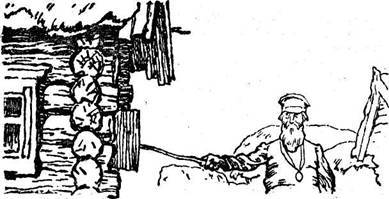
I
В осенний Иванов день рано утром по подоконью каждой избы прошел староста и, постукивая палкою в наличники, зычно выкрикивал:
-- Эй, хозяева! ведите ребят в училище записывать, коли будете учить, -- из волости приказ пришел.
Училище только открывалось в селе Ящерине, верстах в двух от Моховки. До этого школа была много дальше, и в ней мало кто мог учиться. Теперь открывалась возможность ходить в школу всем. Деревня заволновалась. Ребятишки начали перебегать из избы в избу и спрашивать друг у друга, пойдет ли он в училище. В деревне, имеющей около сорока дворов, набралось таких охотников душ пятнадцать. После обеда все они собрались гурьбой и пошли в Ящерино.
Моховка когда-то принадлежала помещику, знатному барину.
При выпуске на волю крестьянам дали не всю землю, которой они владели, а часть, причем лучшие куски отошли к имению, а у крестьян остались, что похуже. Размежевали землю так, что к самым усадьбам Моховки подходили барские покосы, а их клин протянулся на две версты и врезался в господский лес.
Моховцам приходилось снимать в имении и подходившую к усадьбе землю и прогон. Плату за это принимали только работой, за что изредка угощали вином, и такие отношения между экономией и крестьянами должны были установиться навсегда.
Жилось моховцам трудно. Поля их выпахивались, и хлеб родился с каждым годом хуже. Заработков поблизости не было, и они жили в постоянной нужде. Первая забота была запастись хлебом, потом обувью и одеждой да заплатить подати. Дальше и не знали, что желать, так как и эти желания никогда не исполнялись. Лет десять тому назад старый помещик умер, и имение перешло к молодому. Новый помещик решил хозяйствовать по-своему, завел другой севооборот; в одном поле не хватило нескольких десятин, -- приходилось снимать землю у моховцев. Моховцы сдали землю на двенадцать лет, потребовав хорошую цену и все деньги сразу. Их условие приняли с тем, чтобы они прежнего обычая обработки не отменяли. Денег пришлось на каждую душу рублей по пятнадцать. Это было так неожиданно, что многие не знали, что с ними делать. Один хозяин "шестидушник", которому пришлось около ста рублей, устроил пир для всей семьи. Он купил быка, зарезал его, набрал вина, напоил пьяными и своих соседей и, завернувшись в шкуру быка, велел возить себя на салазках по деревне. Деньги прошли у многих совершенно бесследно, а у других остались следы, но такие, каких лучше бы не оставалось.
Одинаковы были мужики, одинаковы и бабы; ни у кого не было ни трезвого взгляда, ни правильного понятия. Все были грубы и суеверны. Сердились на попа, если он попадался навстречу, на пастуха при заболевании скотины. Никто не понимал, что нужно кого-нибудь любить или уважать, почему часто из-за яйца или полена дров поднималась ссора, из-за резкого слова при встрече не кланялись целый месяц, из-за пустяка были способны заводить судбище.