— Теперь я вижу, кого я любила. — Тамара чуть приподнялась на тахте. — Не думала я, что ты еще и зверь, грубый, дикий зверь!
Реваз посмотрел со злостью на скульптуру, которую все еще держал в руках, и с размаху бросил ее об пол.
Гадес с Персефоной вздохнули в один голос и рассыпались мелкими обломками по полу.
5
— Как хорошо ты сделал, что пришел, Шавлего. — Он едва успел закрыть дверь, как Русудан уже повисла у него на шее. — Доклад я закончила. Теперь буду укладываться. Ты мне поможешь?
— Ну разумеется. Я за этим и пришел.
— Какой ты хороший мальчик, какой хороший! — Русудан потянулась к его шее, схватила его за воротничок. — Уже ведь холодно, почему ты ходишь нараспашку? Думаешь, без этого не догадаются, какой ты удалой молодец? Ах, опять не сходится! Неужели у тебя нет другой рубашки, чтобы надевать зимой?
— Распределения в колхозе еще не было, а зарплаты я не получаю. Из каких покупать?
— Ах, распределение! Смотрите, он уже о распределении толкует. Ладно, раз так, я беру это на себя. Как приеду в Тбилиси, куплю тебе хороших сорочек.
— А где ты их найдешь? Если не имеешь блата, тебе даже кончика хорошей сорочки не покажут.
— Как — не покажут? Мне не покажут? Для тебя — и не покажут? Шкуру сдеру с негодяев!
Шавлего подхватил девушку на руки. Она была чудесна — детски простодушна, прелестна на диво.
— Шучу, девочка моя! Кто от тебя что-нибудь спрячет? Кто тебе в чем откажет? Достаточно тебе случайно завернуть в магазин — и все, от завмага до последнего продавца, падут ниц перед тобой, со своими прилавками и витринами. Будут сражаться друг с другом, как гладиаторы, за право оказать тебе внимание! И уцелевший в этой битве ослепит себя, вглядываясь в раскаленный кирпич, как благочестивый мусульманин, который удостоился лицезрения могилы пророка.
— Ух, если ты меня сейчас раздавишь, если ты меня задушишь, перед кем будут повергаться ниц прилавки и витрины?
Вошла Флора, остановилась на пороге.
— Ах, как трогательно, ах, как волнующе-трогательно! О дульцинейшая Дульцинея, покидает тебя твой рыцарь? То есть, извините, наоборот, Дульцинея покидает рыцаря цинического образа, красу и гордость Чалиспири! Ну и развозит же вас, слыхано ли — при каждой встрече одни сплошные объятия и поцелуи! Уезжает на каких-нибудь три дня, и не могут друг от друга оторваться, точно навеки расстаются! — Флора закрыла за собой дверь и добавила деловым тоном: — Я звонила на станцию. Поезд отходит в четыре сорок пять по местному времени.
Русудан вырвалась из объятий Шавлего и поправила волосы.
— Флора, я отобрала все, что мне нужно взять с собой: платья, обувь, чулки… Не забудь зубную пасту и мыло! Уложи все аккуратно в черный чемодан. А мы с Шавлего пока спустимся в подвал и упакуем образцы пшеницы и кукурузы.
— Давайте и я с вами спущусь в подвал, а то если вы и там будете прощаться, поезд успеет тем временем уйти в Тбилиси и вернуться.
— Не говори глупостей, Флора. Пока ты, лентяйка, уложишь этот чемодан, мы с Шавлего управимся в подвале со всеми делами.
Подвал был полон вырванных с корнем и связанных в небольшие снопы колосьев пшеницы разных пород, стеблей кустистой и других сортов кукурузы.
— Ты не веришь в мою кукурузу, Шавлего, но вот смотри — сколько на каждом растении початков и какое крупное зерно!.
— Какая ты злопамятная, Русудан! Я нисколько не сомневаюсь в ней — просто однажды что-то сорвалось с языка необдуманное. Горячился, когда говорил, и напутал.
— Славный ты, Шавлего! Хоть и неправду говоришь, а приятно слышать.
— А это что?
— Это тоже разные сорта пшеницы, селекционные. Скорее бы настала весна! Не терпится начать опыление лучших сортов пыльцой ветвистой пшеницы! Больше всего меня интересуют длинноколосая и еще кахетинская и картлийская «доли». Одну легко поражает ржа. У другой слабый стебель. Третья легко осыпается в жаркое лето до уборки урожая. Я хочу соединить их самые лучшие качества в гибриде и потом заставить полученный сорт ветвиться. Все это у меня написано в докладе. Посмотрим, что скажут наши профессора… Боже, как вытерпеть без тебя три дня, Шавлего!
— Оно трехдневное, это республиканское совещание?
— В райкоме сказали — трехдневное. Шавлего, если ты после защиты диссертации будешь читать лекции в университете, то, может, и мне сразу договориться с моим профессором о переезде в Тбилиси? Очень будет жалко, правда, бросить здесь все. Каждое дерево, каждый кустик напоминает мне отца… И народ здесь хороший. Я так люблю Чалиспири, что, если бы не ты, ни за что бы не променяла здешнюю тишину на шумный, прокопченный город… А нам дадут квартиру?
— Если будем там жить, то дадут.
— Тогда мы все здесь оставим Максиму. Чтобы ему не пришлось мучиться, строить себе дом. Правда, Шавлего?
— Разумеется. Но это несколько отдаленная перспектива, а пока перед нами эти три дня.
— Три дня — без тебя!
— Не бойся, промчатся так, что не заметишь. Я скажу Нино, чтобы она заботилась о твоих курах, как о своих. Что касается собаки — не беспокойся; я сам буду варить ей похлебку.
— Нино может не заботиться о моих курах. Флора не хочет ехать вместе со мной.
— Флора остается здесь?
— Да, остается.
— Господи, извели меня своими монологами и диалогами! Увязываете вы или нет всю эту труху? Смотрите, который час! — Флора протянула свою маленькую, изящную руку, сунула часы обоим под нос.
Все трое занялись делом — закутали, связали в один пук все растения, надежно их упаковали и вынесли в галерею.
— А теперь я схожу к Купраче и приведу машину, а то как бы Флора не оказалась права: можно и опоздать к поезду. Остальные приедут прямо на станцию?
— Да, условились собраться там. Ах да, Шавлего, что ты собираешься делать по поводу вчерашнего партбюро?
— Хочу прежде всего повидаться с Ревазом. И с Теймуразом поговорю. Наверно, придется посетить и первого секретаря. Возможно, мы с ним крепко повздорим. Скверно они обошлись с бедным парнем, люто расправились!
— Только без ссор, Шавлего, пожалуйста! Очень тебя прошу, обойдись без ссор.
— Хорошо, постараюсь, Русудан. Флора, милая, пожалуйста, сходи наверх и принеси мое пальто, а то ведь, наверно, сколько еще чего хочет сказать мне Русудан. Ступай, ты же милая маленькая Флорушка… — И он поддел ее, как ребенка, пальцем под подбородок.
Молодая женщина замерла от этого прикосновения, как лань на скале под лаской теплого ветерка.
Глава пятая
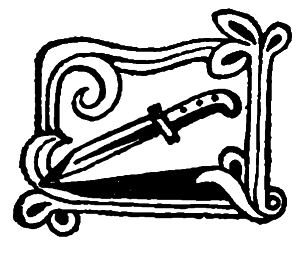
1
Закро отпил немного из полного стакана. Потом с неохотой проглотил кусок шашлыка и снова посмотрел в окно, которое постепенно заливали сумерки. Застольцы были изумлены: в последнее время богатырь вовсе не прикасался к вину — сидел за столом хмурый, задумчивый, с насупленными бровями. Лишь изредка бросал друзьям два-три незначащих слова и снова погружался в какой-то ему одному доступный мир.
Больше всех удивлялся Хатилеция: бросит занозистую шутку, заставит собутыльников задыхаться от смеха, а у Закро словно уши залиты чугуном. Чуял хитрец гончар, в чем тут дело, но всего до конца не знал, скажем, того, что победный день, увенчавший борьбу с болотом, стал днем поражения для непобедимого борца. С тех пор неотвязно преследует Закро эта картина — осыпавшаяся стенка канала и те двое наверху, над ним. Он явственно видит, как пробираются по крепкой обветренной шее нежные, длинные, чуть тронутые загаром пальцы. Как они долго шарят по отвороту рубашки, ища пуговицу и петлю, — как будто их трудно найти! — как упрямится, сопротивляясь им, воротничок — как будто его так уж трудно застегнуть! А пальцы, эти красивые, мягкие, заботливые пальцы, тихонько, застенчиво, но упорно продвигаются от треугольного выреза на груди к шее… В такие минуты Закро становился мрачнее тучи, крепко зажмуривал глаза и, уронив голову на грудь, с силой тер себе лоб.