На другой день я уже сам нетерпеливо расспрашивал о Кирьяне не только своего деда, но и Макара Ивановича. Из их рассказов понял, что почти весь восемнадцатый год Хомутов воевал, а в начале девятнадцатого вернулся в Ольховку по ранению. Председателем Совета был в то время другой человек, но Кирьян не отошел от забот новой власти: возглавил комитет бедноты, организовал в селе вооруженный отряд, поскольку в уезде появились кулацкие банды.
Не забыл и притаившегося Жилина. Когда в Ольховку прибыл продотряд, не обошли и его двор, хотя Жилин не имел посева. В подполе, под амбаром, неожиданно обнаружили более двадцати тюков сукна и шелка, до ста пар сапог и полкринки золотых монет. Жилин признался, что еще летом шестнадцатого года он вместе с одним сплавщиком своим ходом гнал в низовье хозяйскую баржу, груженную мануфактурой и обувью для шубинских магазинов на шахтах. Выждав бури, потопил баржу на каменистом перекате, предварительно выгрузив из нее все ценное. Стихийное, мол, бедствие, докажи, что не так. Рассказывая, как он погрел руки у шубинских миллионов, Жилин представлял это чуть не своей заслугой перед Советской властью. По решению Совета дом Жилина конфисковали, а его самого выслали из Ольховки.
— Кирьян был упорный, — рассказывал дед, — до всего доходил по своей охоте, без принуждения, за новую власть стоял горой. Я, говорил он, мобилизованный партией. А в партии не состоял… Умер, как солдат, погиб в том же году при налете банды. Как сейчас помню, перед рассветом наскочила та банда. Поначалу собаки зашлись в лае, потом выстрелы рассыпались, и один за другим два взрыва подняли все село: бандиты бросили гранаты в окна сельсовета. Мужики, что с винтовками были, повыскакивали, кинулись к сельсовету, где из темных оконных проемов выбивалось пламя. Кирьян бросился было сбивать огонь, но в это самое время за углом в проулке прогремело несколько выстрелов, и тут же на улицу выскочили трое конных. Одного сразу сняли с коня из винтовки. Кирьян выстрелил во второго, но тот успел опустить шашку на его голову…
Я решил писать новый портрет Кирьяна Хомутова. Дома сохранились краски и кисти. Надо было успеть закончить работу за неделю, оставшуюся от отпуска.
Первый портрет писал без вдохновения: передо мной была только фотокарточка Кирьяна с неестественным выражением лица, и, по существу, я просто копировал ее, не имея возможности внести что-либо свое, потому что совсем не знал этого человека. Теперь передо мной была его жизнь, когда весь человек на виду, когда на крутых поворотах она проверяет каждого, его убежденность и характер. До революции он вместе с таким же горехватом, каким был сам, имел одну лошадь на двоих. «Сегодня один держится за уздечку, второй — за репицу хвоста, — смеялся дед, — а завтра наоборот». Быть может, и мечты Кирьяна в то время не разбегались дальше желания иметь целую лошадь вместо половины. Но Октябрь раздвинул его мечты, и потому он отстаивал новую жизнь без оглядки, шел к ней через все опасности, ни в чем не показывал раздвоенности. Меня с ним разделяли полвека. Но каких! Значит, в своих устремлениях и делах я должен быть выше Кирьяна, а мне казалось, что я смотрю в будущее часто не дальше завтрашних забот. Но тут же возражал: не слишком ли я строг к себе? Жить на отдачу я, по существу, начал первый год, с армейской службы, и прожит он неплохо.
Обо всем этом, размышляя над образом Кирьяна, я думал не только в те часы, когда сидел у мольберта, но и в другое время, даже ночами. Прогоняя сон размышлениями о судьбе этого простого крестьянина, я смотрел с кровати, как в лунном свете за тюлевой занавеской искрились прихваченные первым морозом стекла окон, и мысли мои тоже метались, как эти льдистые искры, когда в круг раздумий я невольно втягивал и свою жизнь.
Перед отъездом в часть портрет был готов. Теперь я показал Кирьяна не в военной форме, а в распахнутом стареньком полушубке и потрепанной, чуть сдвинутой набок шапке-ушанке.
— Вот теперь вылитый Кирьян! — в который раз говорил дед.
Портрет понравился и Макару Ивановичу.
— Смотрит-то с упряминкой, — заметил он. — Угадал, Гринька, в самый раз.
Упряминка… Я видел ее, когда представлял Кирьяна решительным в бою, добрым и веселым при раздаче беднякам вещей из шубинского имения, непримиримым при соприкосновении с классовым врагом. Обо всем этом я думал, слушая замечания стариков, а еще о том, что работа над этим портретом оставила след и в моей жизни.
Ночной десант
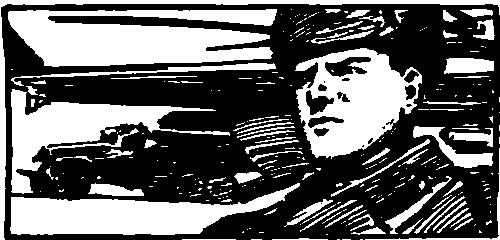
Полчаса назад первый мотострелковый батальон в ожидании приказа задержался в лесу около большой заснеженной поляны.
Третьи сутки идут дивизионные учения. Третьи сутки солдаты и командиры не видят солнца и звезд: снежный вихрь властвует всюду — от этой поляны до ледяного неба. Мир сузился до небольших пределов видимости, и, кажется, все в нем сейчас забито снежной пылью, которая крутится рядом, сечет лицо, сбивает дыхание.
У высокого дерева, привалившись широкой спиной к корявому стволу, стоит сержант Максим Гончар. Крупное, прокаленное морозом лицо, открыто ветру, словно бросает ему вызов, и лишь изредка он передвигает шапку с одного уха на другое. Если бы кто внимательно посмотрел на него со стороны, непременно удивился бы переменам в выражении лица: только что оно светилось легкой улыбкой, потом вдруг замерло в раздумье и снова посветлело.
Максим прислушивается к стонам леса и к самому себе, пытаясь понять, какие чувства в нем вызывает это тяжелое учение, самое тяжелое из всех других, в которых ему довелось участвовать за полтора года службы. В роте все знают, что он подал рапорт с просьбой направить в высшее общевойсковое военное училище. И странное дело, когда Максима спрашивают, почему он решил стать профессиональным военным, а не инженером на заводе или, скажем, комбайнером, на такой вопрос он отвечает, словно бы стесняется, что его давно привлекает мир людей мужественных и сильных, каких особенно много в армии. Иной раз размечтается, видит себя то на параде во главе строя, то на учениях, которые ему тоже по душе. Никогда он не ощущает в себе душевной вялости, поэтому живо реагирует на все: весел солдат или хмур, широко шагает по службе или спотыкается. Правда, рядом с собой Максиму хотелось бы видеть только таких же, как он сам, рослых и крепких парией, но не беда, что среди сильных иногда встречается слабый, с таким тоже интересно работать, видеть, как он на твоих глазах становится солдатом.
Но всего этого он не сказал и в беседе с командиром роты капитаном Корнеевым, когда пришел к нему с рапортом. «Охотно поддержу вашу просьбу, товарищ Гончар. Хорошо обдумали свой шаг? Ведь это на всю жизнь». Он ответил: «Хочу в жизни такого дела, чтобы оно всегда шевелило меня, толкало вперед». Корнеев пристально посмотрел на него, будто изучал впервые, усмехнулся: «Кудряво сказано… Романтику ищете? Она вокруг нас, но не каждый видит ее и чувствует. Впрочем, вы хорошо знаете, что наша военная жизнь — непрерывная работа с людьми. Судить о ней по частностям нельзя — ошибешься. Некоторые частности работы офицера одних могут разочаровать, у других, наоборот, создать ложное представление о нашей службе как о легкой жизни, по которой офицер всегда шагает в белых перчатках. Поэтому на военную службу офицера надо смотреть в целом, со всеми ее праздниками и буднями».
Максим согласен с ним, поверил, что капитан говорил искренне.
Сейчас Гончар смотрит на белый хоровод под лапами елей, видит, как подрагивают на ветру метелки поваленных снегом кустов, и думает, что вот это и есть наши будни, о которых говорил Корнеев. А учения продолжаются и еще будут идти сколько нужно.
Рядом солдаты перебрасываются короткими фразами:
— Дороги совсем замело.
— Пробьемся.
— Смотри какой пробивной! Забыл, как утром бронетранспортер толкали? Вот была работенка!.. Кругом вихрит, в двух шагах родную маму не узнаешь, а наш бэтээр устроился передком в воронке и никак не хочет вылезать.