Менелай, обратился я про себя к младшему из братьев, из-за тебя и жены твоей, похотливой и лживой бабенки, вот уже без малого десять лет продолжается это отвратительное действо – война. Вдали от дома, греки проливают кровь, свою и чужую, болеют, умирают, терпят невзгоды и лишения, теряют лучшие свои годы, а вместо благодарности – гнусные козни…
Ночь под веками вдруг вспыхнула громадным – аж до самых небес – костром. От костра летели в небо искры, мириады искр, и там, на ночном небе, превращались в звезды. Вытянув из-за пояса меч, подарок Лучшего из троянцев, отбросив в сторону щит, побежал я к шатрам ненавистных братьев. Смерть вам, сыновья Атрея. Смерть тебе, Одиссей. Вам, и воинам вашим, и приспешникам вашим – всем вам смерть!
В лужах крови тела… Их больше и больше. В отсвете огня хаотично мечутся тени, кто-то в панике пытается убежать, спрятаться за ближайший куст или дерево; кто-то, упав на колени, взывает к милости моей: не лишай нас жизни, Аякс Теламонид, опомнись, мы ж ведь одного с тобой рода-племени… Но нет, подлые, не разжалобить вам меня. Как вам неведомо, что такое честь, так мне неведомо, что такое милосердие. Никому из вас не уклониться от клинка моего.
Раздражение, накапливавшееся вот уже несколько месяцев, получило, наконец, выход. В одного за другим вонзается мой клинок. Умрите, подлые! Умрите все!
Безумие. Его наслала на меня Афина-Паллада, всегдашняя Одиссеева заступница.
Оказывается, ослепленный бушевавшим во мне огнем, я побежал не к шатрам Агагемнона, Менелая и Одиссея, а в сторону обратную – скотного двора. И убивал – о, ужас! – не врагов своих заклятых, а безвинных животных, и их предсмертный рев, предсмертное блеяние слышались мне мольбами о пощаде.
Это дошло до меня лишь под утро, когда вместе с первыми лучами солнца разум мой прояснился, и окружающий мир предстал таким, какой он есть.
О солнце, лучше б ты не выплыло из ночи, не освещало землю. Что я натворил!
Трупами животных был усеян весь скотный двор, где-то даже громоздились они друг на друга. Вперемежку – быки, овцы, свиньи. Кровавые озерца загустели, из алых превратились в бурые.
Ко двору подходил скотник – мутноватый спросонья (а может с перепоя) взгляд, взъерошенная борода, нечесаные пучки волос… Он почесывался и позевывал, но, узрев жуткую картину, застыл с раззявленным ртом. Сейчас он опомнится, рванет в лагерь и поведает об увиденном.
И тогда я побежал. Без определенного направления, куда глаза глядят.
Я бежал, спотыкался о кочки и корни деревьев, падал, но тут же вскакивал и снова бежал. Сначала бежал берегом моря, потом свернул к лесу, и дальше, дальше… Наконец, достиг предгорий.
Дальше, дальше, прочь от этого кошмара. Вот только чуть переведу дыхание и побегу снова.
Пустое! Не убежать мне от себя, от своего позора.
Простерши руки к небу, я испросил у богов помощи. И, боги, сжалившись, наполнили меня душевной силой и решимостью. Я ударил себя мечом, в левую часть груди, туда, где сердце.
Глубоко под землей, в царстве мрачного Аида, нет ни любви, ни ненависти, ни радости, ни раздражения. Нет зависти, нет тщеславия. Чувства и эмоции остались в прежнем, земном существовании. Впрочем, и людей здесь тоже нет, – беззвучно и бесцельно скользящие тени.
Вдруг, над головами, словно ветра дуновение: оттуда, сверху, к нам явилось существо из плоти и крови. Приблизились тени, присмотрелись – в самом деле, человек. Роста выше среднего, сухощав, мускулист, на голове войлочная шапочка. Лица в темноте не разглядеть.
Тени обступили мужа, касались его тела, платья, засыпали вопросами. Как ты сумел попасть сюда? Как собираешься выйти обратно? Расскажи, поведай, что нового – интересного там, наверху? Как поживает брат мой? Не встречал ли сына моего? А жену мою? Вспоминают ли меня родственники, являются ли к холму, под которым захоронен прах мой?
Мужчина отвечал.
Я узнал его по голосу: Одиссей! Живой, он исхитрился проникнуть даже сюда, в царство мертвых. Да есть ли место в мире том, в мире этом, куда не смог бы проникнуть этот неуемный муж. Кто б мог подумать, что шутка Диомеда: «Даже под землей, в царстве Аида, не пропадет Одиссей» (не ручаюсь за точность слов, но смысл был именно таков), со временем обретет буквальный смысл.
Выделив меня среди теней по росту и размаху плеч, вымолвил трепетно:
– Аякс Теламонид, это ты?
Я смолчал – не желаю разговаривать с этим подлым человеком. Тогда Одиссей произнес:
– Аякс Великий, зря ты так, поверь, ведь мое обращение к тебе – от всего сердца. Давай хотя бы здесь, под землей, забудем о взаимных обидах.
И вновь я не ответил. Он не может, чтоб не лгать. Ложь – его суть. «…забудем о взаимных обидах»… Да, были обиды, смертельные обиды, но не взаимные, а только с твоей стороны, Одиссей. Я же не клеветал на тебя, не строил козни, я просто не способен на такое.
Это было мною сказано про себя, но Одиссей, словно услышав мои слова, вымолвил с укоризной.
– А теперь постарайся взять себя в руки, гордый муж, и выслушать, как развивались события, когда весть о твоей трагической смерти, а также о том, что ей предшествовало, достигла ушей Агагемнона. Вне себя от гнева, приказал царь царей: «Безумец Аякс, сын Теламона, опозоривший греков, не достоин того, чтоб быть преданным захоронению. Тот же, кто попытается это сделать, будет подвергнут жесточайшей казни». Ранее он таким же образом пытался осквернить труп Паламеда, но ты, вопреки его приказу, зарыл труп в землю. В этот же раз я, Одиссей, не допустил бесчестия по отношению к тебе, ведь я считал, и всегда буду считать тебя одним из величайших героев Греции. Правда, действовал я, в отличие от тебя, словом. Низко склонив голову пред Агагемноном, я долго перечислял твои подвиги в сражениях, твои многочисленные заслуги перед войском, и, в конце – концов, убедил. Приказ свой Агагемнон отменил, тебя похоронили со всеми почестями, причитающимися великому воину, и холм над местом твоего захоронения возвысился рядом с холмом лучших из греков – Ахилла, Патрокла и Антилоха. Клянусь Афиной-Палладой, моей покровительницей, все было именно так, как я рассказал.
Лишь только закончил свой сказ царь Итаки, как что-то перевернулось во мне, я чуть было не бросился на грудь врагу своему заклятому, однако в последний момент сумел одернуть себя – нет, не бывать примирению! Не прощу его даже здесь, в темном царстве Аида, где все произошедшее в той, земной жизни уже не имеет смысла. Повернувшись спиной к этому любимчику судьбы и в одночасье человеку глубоко несчастному, я молча отступил.
И все же не выдержал. На мгновенье повернулся и взмахнул рукой.
Узрел Одиссей этот мой жест – не узрел – не знаю. И не узнаю никогда.
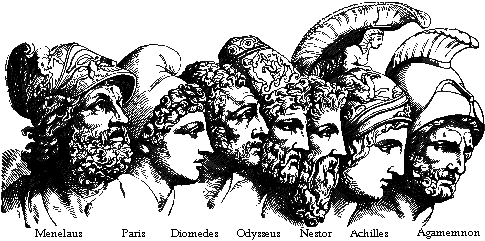
Домой (из «Одиссеи»)
1
…не просто уважали, – восторгались мною. Спроси любого соотечественника – воина, оракула, вождя, – что он думает обо мне, и услышишь в ответ: неистощимый на выдумки муж, несравненный оратор, царь, в бою не прячущийся за чужие спины. А более всего известен я был среди своих (да и среди врагов троянцев) как «хитроумный». Хитроумный Одиссей.
Однако были у меня и враги, и немало. Их у вождя не может не быть по той хотя бы причине, что интересы воинства и личности, той, что малая составляющая воинства, частенько идут вразрез, а значит, вождь вынужден жертвовать. Разумеется, интересами, а то и жизнями отдельных личностей. Кстати, есть еще и третья сторона – сам вождь, его интересы.
Первым, кто возненавидел меня, был Филоктет, пожилой муж, принимавший участие еще в походе аргонавтов за золотым руном. Был он дружен с самим Гераклом, Величайшим из Героев греческих, и тот перед смертью подарил ему волшебные, не дающие промаха стрелы. Впрочем, стрелял Филоктет метко стрелами и обычными, не волшебными. Как-то раз, на соревнованиях даже сумел взять вверх надо мной, что дало основание злым языкам последующие мои действия объяснить завистью. Но нет, к Филоктету не испытывал я враждебных чувств. А сделал то, что сделал, потому, что того требовали интересы воинства.