— Нет, отрицаю! Докажите это!
Оливер злобно усмехнулся.
— Я не юрист, — промолвил он, — но я это докажу. — Он медленно распахнул свой широкий плащ и достал четыре документа, писанные рукой коннетабля; то были письма к герцогу и к английскому королю и два документа, касающиеся союза. Сен-Поль, оттолкнув стул, одним прыжком подскочил к Оливеру и вырвал у него документы. Мейстер рассмеялся.
— Радуйтесь на них, монсеньор! Спрячьте их или уничтожьте! Заверенные копии с них находятся в руках суда.
Сен-Поль, вскрикнув от гнева и отчаяния, швырнул пергамента Неккеру под ноги. Потом он бросился на кровать и подпер голову кулаками; он весь трясся, словно от озноба или рыданий. Оливер подошел к нему.
— Монсеньор, — прошептал он взволнованно, — признайтесь суду, меня же простите. Нынче я вам ничего не сделал дурного.
Он наклонился, быстро поцеловал костлявый, жесткий кулак коннетабля, поддерживавший его голову, и вышел. Сен-Поль, с изумлением приподнявшись, увидел запиравшуюся дверь, услышал скрип запоров, нескончаемые шаги часовых и затем долго глядел на руку, которую поцеловали. В эту же ночь он потребовал бумаги и письменных принадлежностей.
На следующий день пораженный парламент прочел письменную повинную коннетабля и подробный доклад о его политических интригах со времени занятия городов на Сомме. Теперь процесс быстро двинулся вперед. Сен-Поль повторил свое сообщение во время открытых заседаний и признал свое авторство относительно четырех документов, доказывавших его государственную измену. Уже через неделю можно было послать в Амбуаз королю все документы, относящиеся к процессу, а также приговор, который подлежало сообщить осужденному лишь утром в день казни.
Неккер, находясь вдвоем с Людовиком в башне, прочел тихим голосом главную часть приговора:
— «…И после того, как в серьезном и строгом совещании все было расследовано и обдумано, суд объявил и объявляет монсеньора Людовика Люксембурга виновным в оскорблении величества и в государственной измене и снял и снимает с него его сан коннетабля Франции и все другие должности, чины и достоинства. В виде же искупления суд присудил и присуждает его к смертной казни через публичное обезглавление на Гревской площади в Париже; все же его имение, движимое и недвижимое, суд объявил и объявляет конфискованным в пользу короля, который им располагает и, признавая претензии бургундского герцога справедливыми, удовлетворит их особым актом. Ввиду же чудовищности совершенных им великих и ужасных преступлений должен мессир Людовик Люксембург после обезглавления подвергнуться четвертованию, а его отсеченные члены и туловище должны быть повешены на виду у всех…»
Оливер прервал чтение и взглянул на короля, опустившего голову. Потом, не колеблясь, пошел к столу, взял перо и вычеркнул последние слова.
— Этого король не хотел, — произнес он серьезно, — его совесть никогда не позволила бы ему этого.
Людовик молча кивнул и дал знак читать дальше.
Но Неккер снова повернулся к нему лицом и тихо произнес:
— Вы продиктовали Тристану точный текст приговора еще до начала процесса, государь, я это знаю. Жестокость, которую я только что вычеркнул, перевешивает все ваши настоящие и будущие дела человеколюбия… Вы опять мой должник, государь.
Король молчал, прикусив губы. Оливер закончил чтение:
— «После казни, публично приведенной в исполнение над его особою, как это объявлено судом, его тело будет погребено в освященной земле, поелику он о том ходатайствует…»
Людовик подписал приговор, заранее отвергнув в приписке возможное прошение о помиловании. Потом он положил перо и закрыл лоб рукою.
— Головы утомляют, Оливер, — прошептал он. — Хорошо, что ты бодрствуешь подле меня.
Глава пятая
Рубеж
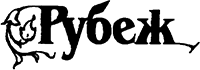
Пришла весна. Король и Неккер ожидали родов Шарлотты. В течение нескольких недель страна отдыхала от потрясений и опасностей этой зимы; политическая ладья опустила якорь, ожидая сигнала к новому отплытию, — и этим сигналом должно было служить разрешение королевы от бремени. Король был настроен более скептически, чем Неккер, который со странной уверенностью и упорством рассчитывал на благополучные роды, — а именно на рождение сына. Людовик же часто говорил, что в его брачной жизни — да и вообще в роду Валуа — девочки родятся чаще мальчиков. Оливер в этих случаях улыбался и качал головой: это — не доказательство. Может родиться и сын.
— Ты что же, подверг ее величество действию своих дьявольских чар? — посмеялся Людовик однажды над его уверенностью.
— Я обратил ее внимание, — серьезно ответил Неккер, — на силу ее собственной воли и затем еще на свойства анемона, сок которого, согласно тайному старинному рецепту времен Каролингов, способствует зарождению мужского плода. В мощь человеческой воли я верю больше, чем в лекарство; но лекарство придает государыне бодрость и силу, а это необходимо, раз энергия не стимулируется никаким другим чувством, кроме одного лишь чувства долга. Государь, я верю в дофина, потому что он необходим.
— Необходим? — раздумчиво переспросил король. — Необходимы только я да ты…
Неккер посмотрел на него.
— Разве мы не смертные люди, государь?
Король схватил Оливера за руки и зашептал, оглядываясь кругом, словно боясь, что его подслушивают:
— Я безумно желал бы усомниться в этом. Я хочу сомневаться в этом, я сомневаюсь! Мы преодолели извечную человеческую обособленность, мы образовали двуединство; почему же не можем мы удвоить человеческую жизнь? Я верю, что наш единый дух подчинит себе наши разрозненные тела. Я верю, что моя власть и твои чары преодолеют границы человеческой жизни. Я верю, что мы сумеем перешагнуть за земной рубеж.
Неккер едва заметно усмехнулся.
— Вы попросту боитесь смерти, государь?
И видя, что Людовик не отвечает, медленно добавил:
— Так, по-вашему, мои чары, или то, что вы зовете моими чарами, — от дьявола?
Король сделал отрицательное движение рукой.
— Зачем ты это говоришь единственному человеку, который знает, что ты — не от дьявола? Разве я не пожинаю плоды твоей…
Он запнулся, словно не находя слов. Прекрасная улыбка озарила лицо Оливера. Людовик тихо докончил:
— …твоей человечности…
Неккер потупился.
— Быть может, это то слово, быть может и не то, государь. Но оно меня радует. Из пределов человеческих понятий нам не выйти. И поверьте мне, — перешагнуть положенный рубеж очень трудно, даже невозможно, когда боишься…
— Боюсь, боюсь, друг, — зашептал Людовик, — боюсь ее, ненавижу ее, буду бороться с ней до конца, как никогда еще не боролся!
— Да разве жизнь хороша? — резко вскричал Оливер.
Король удивленно взглянул на него.
— Я не знаю ничего лучше, — печально произнес он, — я знаю смерть, но только для других; такая смерть не светла и не красна. А покуда я жив — я король; и не в силу одной лишь случайности рождения! Я воистину единственный человек в государстве, который может, который способен быть властелином. Что сталось бы с этой великой страной, не будь меня сейчас на свете, — меня с тобой? Я обязан любить нашу жизнь, друг, и ты должен будешь помочь мне, когда приблизится Великий Враг.
Оливер потупился; казалось, разговор этот волнует его.
— А разве не легче было бы бороться с Великим Врагом, — воскликнул он, — если бы король христианин и чужую жизнь научился ценить и беречь, как сокровище?
Людовик задумчиво покачал головой.
— Господь не судил, чтобы борьба далась мне легко, — нерешительно произнес он, — господь не судил мне быть кротким государем. — Он помолчал минуту, а затем с ударением сказал:
— Брат, не смей ссылаться на бога: ты сам можешь помочь.
Оливер шагал взад и вперед по комнате; глаза его светились лаской и добротой.
— Хорошо, — прошептал он, — я последую за вами, когда вы отойдете от людей и останетесь в одиночестве. В великом вашем единоборстве вы будете не один, государь. Но до рубежа далеко, и много предстоит еще горя.