Разумно было бы предположить, что и усиленное внимание читателей к образу дьявола в романе «Мастер и Маргарита» может действовать так же, как в языческих оккультных практиках. Иначе говоря, вполне реальный дьявол может питаться сосредоточенной на нем концентрацией мысли многочисленных поклонников романа. Сам Михаил Афанасьевич, конечно, ничего подобного не имел в виду. Просто в своем творчестве он следовал не православной, а светской культурной традиции. А уж там-то эстетизация дьявола давным-давно идёт полным ходом.
Антропоморфные изображения нечистых духов задолго до Булгакова обрели свою нишу в европейском искусстве: и обаятельный проказник Мефистофель, и тоскующий демон Лермонтова, перекочевавший потом на гениальные полотна Врубеля… Не хочется тратить время на их перечисление. Всё это очень печально, прежде всего, потому что все эти образы – ложные. В демонах нет ни обаяния, ни элегантности, ни искрометной иронии, ни страданий неразделенной любви: Там вообще ничего нет, кроме ненависти ко всему, что имеет бытие и является творением Божиим. Все прочие качества – романтизация демонических, или страстных начал в самом человеке. Для того, чтобы понять какие личные качества присутствуют в демонах на самом деле, достаточно хотя бы однажды увидеть одержимого злым духом человека в приступе беснования. Зрелище жуткое, но запоминающееся на всю жизнь и очень убедительное.
Когда-то в ярмарочных балаганах чертей изображали в виде козлоподобных сатиров. И никому в голову ни могло прийти рассматривать их чувства, интеллект или каким-либо иным способом попытаться проникнуть в «сложный внутренний мир» демона. Но когда на оперных подмостках в исполнении лучших актеров появился Мефистофель, ситуация качественно изменилась. В лице человекоподобного беса искусство получило весьма сомнительное приобретение, поскольку человек в своём нынешнем, падшем состоянии невольно стремится к всевозможной чертовщине по причине сходства страстей, действующих и в демонах и в людях. Чтобы противостоять этому влечению, необходимо сознательное волевое усилие, основанное на знании Евангелия и опыте личной молитвы.
Но тогда как читать «Мастера»? Пропуская описания, рассуждения и диалоги с участием дьявола? Немного же тогда останется от романа о дьяволе. Или полемизируя с ним и оспаривая его тезисы, как это делает о. Андрей? Вряд ли это можно назвать безопасным занятием для читателя, богословски и духовно менее подготовленного, чем тот же Андрей Кураев. Парадокс читательского восприятия Воланда – в том, что он – единственный персонаж романа, который действует вполне адекватно своей сущности. Сущность беса – зло, без малейших проблесков добра. И когда Воланд творит явное зло, мы не воспринимаем это как отклонение от нормы: ведь чего же еще кроме зла можно ожидать от дьявола? Когда Воланд лжет, это тоже выглядит вполне органично, ведь он – «отец лжи».
Но как же безответственно было выпускать такое существо в культурное пространство романа! Да еще такого, в котором не только нет Бога, но и просто ни одного положительного персонажа не наблюдается.
Есть вещи и понятия, несовместимые в определенном контексте с пользой для человека. Нельзя, например, использовать цианистый калий для приготовления пищи. Ни в какой форме. Нельзя использовать огнестрельное оружие для убеждения других в правоте собственных идей. Нельзя использовать водородную бомбу в мирных целях. Пусть немного нелепо звучит тавтология, но всё, что несет смерть – смертельно опасно. А ведь дьявол – человекоубийца по определению, и других целей в его деятельности просто нет.
В одной из своих книг, полемизируя с протестантами, о. Андрей определяет Евангелие как словесную икону Христа. Не является ли по этой же логике роман Булгакова о дьяволе словесной иконой дьявола? Если воспользоваться методом «приведения к абсурду», то способ душеполезного чтения этого романа можно выразить в виде молитвы перед иконой, на которой изображен только дьявол, но нет ни Бога, ни святых. Глядя на такую икону, наверное, можно вспоминать о бытии Бога, но это будет уже чем угодно, только не христианством.
После прочтения книги о. Андрея возникает вопрос гораздо более важный, чем те, на которые он взялся ответить. Всякий ли консерватизм своей любви следует оправдывать христианину? Для чего члену Церкви Христовой с любовью относиться к этой булгаковской книге? Ну, ведь не для того же, чтобы, определив для себя «Пилатовы главы» как – кощунственные, иметь возможность полюбоваться красотой и поэтичностью изображения Ершалаима в этих самых кощунственных главах. Наверное, христиане, разбивавшие идолов в языческих храмах, тоже не лишены были чувства прекрасного. Но духовный вред в их понимании все-таки был более значим, чем эстетика.
Общий смысл христианского понимания искусства вполне укладывается в формулировку Аристотеля. Он утверждал, что цель искусства – не в занимательности и развлечении, а в нравственном совершенствовании человека. И по большому счёту, наверное, не так уж важно соотношение личности М. А. Булгакова и инфернальных персонажей, созданных его творческим воображением. Это его личная проблема, и меня, как читателя и христианина, она не особенно волнует. Гораздо важнее, по-моему, другое. Что же все-таки получилось у него в конце концов, после всех этих мучительных правок, сжиганий и переписываний? Является ли роман о дьяволе произведением искусства в христианском понимании, или нет? И если да, то каким образом он может способствовать нравственному совершенствованию человека вообще, а христианина – тем более?
Мне кажется, пока о. Андрей Кураев не ответит ясно и определенно на эти вопросы, его книгу нельзя считать законченной. А ответить надо. Потому что «Мастер и Маргарита» – это не «Гарри Поттер». Мне очень понятен и близок миссионерский пафос о. Андрея, когда он стремиться ввести в христианское культурное пространство всё, что имеет хотя бы какое-то к тому основание. И когда в статье «Гарри Поттер: попытка не испугаться» он нашел в христианской традиции промежуток между людьми и ангелами, благодаря которому сказочных героев можно не считать бесами, я от души был ему благодарен. Но Воланд со свитой – не сказочные герои, а вполне реальные обитатели духовного мира, пусть и одетые в художественный камуфляж писательским талантом М. А. Булгакова. И тут очень важно задаться вопросом: а не является ли интерес к роману о дьяволе одной из форм интереса к самому дьяволу? И если это действительно так, то насколько безопасно с пиететом относиться к этому роману?
Поскольку эти вопросы подспудно присутствуют в книге о. Андрея, думается, вряд ли кто-то сможет ответить на них лучше, чем он сам.
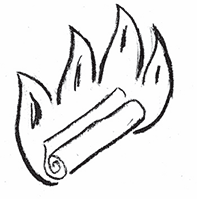
Проклятье, которого не было

В истории русской литературы трудно отыскать тему более тяжелую и печальную, чем отлучение Льва Николаевича Толстого от Церкви. И в то же время нет темы, которая породила бы столько слухов, противоречивых суждений и откровенного вранья.
История с отлучением Толстого по-своему уникальна. Ни один из русских писателей, сравнимых с ним по силе художественного дарования, не враждовал с Православием. Ни юношеское фрондерство Пушкина, ни мрачный байронизм и нелепая смерть на дуэли Лермонтова не вынудили Церковь перестать считать их своими детьми. Достоевский, прошедший в своем духовном становлении путь от участия в подпольной антиправительственной организации до пророческого осмысления грядущих судеб России; Гоголь, с его «Избранными местами из переписки с друзьями» и «Объяснением Божественной литургии»; Островский, которого по праву называют русским Шекспиром, Алексей Константинович Толстой, Аксаков, Лесков, Тургенев, Гончаров… В сущности, вся русская классическая литература XIX века создана православными христианами.
На этом фоне конфликт Льва Толстого с Русской Православной Церковью выглядит особенно угнетающе. Наверное, поэтому в России любой интеллигентный человек вот уже более ста лет пытается найти для себя объяснение трагическому парадоксу: Толстой – величайший из отечественных литераторов, непревзойденный мастер слова, обладавший потрясающей художественной интуицией, автор, при жизни ставший классиком… И в то же время – единственный писатель, отлученный от Церкви.