— Чертовски устал, — проговорил Медведь, — ну и дорожка!..
— Да, пути–дороженьки… — лениво проворчал Николай Николаевич. — Сколько эта дорога существует?
— Наверное, тысяч пять лет уже. Недаром ее называют Дорогой царей. А все, как и при царе Горохе, через пень–колоду тащутся по ней путники, ломают ноги кони, разваливаются арбы… Представляю себе эту дорогу в будущем. Вместо дымных наших костров сияющие электрические фонари, прожекторы, вместо колдобин и ухабов — гладкое, как стекло, полотно гудрона, асфальт, вместо колченогих арб — автомобили…
— Дорогой мой, — наставительно заметил Николай Николаевич. — Все это мечты. Асфальт и электричество, в Азии, в дебрях Памира и Гиссара? Что с вами, у вас температура?
— Не сегодня, конечно, все это будет. Но это будет.
— И это сделаем мы! — подхватил Джалалов. — Мы, советские люди. Мы проложим сюда, в дикие горы, дороги, мы, выполняя веления Ленина, принесем сюда культуру…
— Может быть, будут здесь и дороги, и культура, и электричество, но когда? Я, во всяком случае, не надеюсь увидеть…
Седые усы Медведя забавно встопорщились.
— Что вы, молодой человек, говорите? Даже я надеюсь увидеть край, преображенный вот этими руками. — Он протянул к костру свой, покрытые набухшими венами, руки. — Своими руками… Ну, а если… если я сам не увижу… Так что ж из того? Подлец и ничтожество тот, кто не желает совершенствовать мир только потому, видите ли, что он боится помереть, не успев пожить в этом будущем счастливом мире… Только заплесневевший эгоист не захочет сажать молодые деревья потому, что не он сам, а молодое радостное поколение воспользуется плодами этих деревьев. Глупости все это!
— Скоро, что ли, все проедут? — поспешил перевести разговор на другую тему смущенный Николай Николаевич. — Покушать не мешало бы. Я слышал, что в байсунских ресторациях, даже в нашу, не такую уж мирную эпоху, шашлык — пальчики оближешь.
Занятый своими мыслями, Медведь не ответил.
По дороге, скрипя и грохоча по камням, медленно катились одна за другой арбы, освещенные багровым отсветом костра. Из тьмы возникала сначала лохматая голова лошади с испуганно поблескивающими глазами, затем мокрое, покрытое клочьями пены туловище, и, наконец, круг колеса с напряженно уцепившимся за спицы человеком.
Неизменно Николай Николаевич кричал проезжающим:
— Хармайн, уртак! Не уставайте, товарищ! В ответ раздавалось усталое, но уверенное:
— Хош, уртак.
Арбы с шумом и плеском въезжали в ручей, и рубиновые брызги взлетали выше спины лошади. Слышно было в темноте как и возница и его конь с жадностью пьют воду. Потом раздавалось фырканье, пронзительный скрежет гальки под железными ободьями колес и громкие выкрики: «пошт», «пошт», — арбы выезжали на высокий берег и исчезали во мраке.
Бесшумно через полосу света проплывали, словно сказочные чудовища, верблюды; безмолвно проходили верблюжатники, опираясь на длинные посохи. Не задерживаясь для водопоя животных, не притронувшись сами к воде, они переправлялись через ручей и уходили наверх. Маленькие камешки, блестящие, мокрые сыпались вниз со стеклянным звоном… И все новые и новые косматые губастые звери выползали из бархатистой тьмы, окунались в кровавое, пляшущее пятно света и тонули в ночи.
— А вот и Кошуба!
Кошуба решительно осадил коня у костра.
— Дайте–ка огоньку, курить хочется, — проговорил он. — В звуках его бодрого голоса не чувствовалось и признаков усталости. И всадник и конь были свежи, как будто только что двинулись в поход. — Ну, ребята, по коням. А знаете, эти самые басмачи… облако пыли, что за нами гналось весь день? Бараны, стадо баранов.
— Да ну? — удивился Джалалов. — Правду говорят узбеки: «Укушенный змеей — полосатой веревки боится».
— Поехали, а то сейчас отара на нас навалится.
Действительно, где–то в вышине, из–за поворота, послышалось блеяние и дробный топот тысяч копытцев.
Когда перебрались через ручей, Джалалов спросил у Кошубы:
— А вы нашу Саодат не видели там, у верхнего костра?
— Как же, видел.
— С ней был Санджар?
— Не заметил. — Судя по равнодушному тону, Кошуба не проявил к новости ни малейшего интереса. — Что же, она там осталась?
— Зачем? Она в последнюю арбу забралась.
— Вот что, ребята, — вдруг сказал Кошуба строго. — Вы о Санджаре пока бросьте думать. Это дело сложное и лучше поменьше о нем говорить или совсем не говорить.
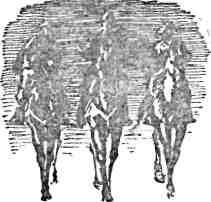

Часть 4

I
Как могло случиться, что Санджар ушел, предал? Нельзя ли было предотвратить это? Может быть, достаточно было проявить чуточку больше внимания, обойтись с ним мягче, простить самовольные его поступки, вызванные неукротимым нравом…
Случай с Санджаром потряс всех.
Ужин, данный в честь экспедиции байсуноким комендантом, прошел скучно. Все были озабочены поступком Санджара.
Когда трапеза уже подходила к концу, из тени, падавшей от чинара, выступила тоненькая фигурка девочки в платье до пят, и прозвучал детский голосок:
— Кто здесь начальник красных воинов?
Наклонившись вперед и прикрывая глаза от света, чтобы разглядеть, кто его спрашивает, Кошуба промолвил:
— А зачем тебе начальник, девочка?
— Бабушка Зайнаб–биби зовет тебя к себе.
— А кто, твоя бабушка и что ей от меня надо?
— Бабушка, она бабушка. Она приехала вчера. Она сказала: «Пусть начальник скорее придет. Есть дело».
Пожав плечами, Кошуба поднялся. Неугомонный Джалалов и Медведь последовали за ним.
На путанных улочках Байсуна, то уходивших куда–то вверх, то сбегавших вниз, темнота была густая и непроницаемая. Идти приходилось наобум, по выбоинам, круп175
ным, неровным камням, острым комкам твердой глины, и неизвестно было, куда сейчас ступит нога — в мягкий пыльный ковер или в глубокую яму. Тонкий голосок девочки настойчиво твердил: «Сюда идите!» и через несколько мгновений с той же монотонной интонацией: «Сюда идите!»
Шли долго. Но вот с треском распахнулась невидимая калитка, заворчала собака, и голосок снова протянул: «Сюда идите!»
Небольшая, очень опрятная михманхона слабо освещалась масляным светильником. Струя воздуха ворвалась в открытую дверь; по темным, шершавым, грубо оштукатуренным стенам и черным балкам потолка заметались тени.
Посреди комнаты, на красном паласе и ветхих, но очень чистых одеялах, сидела женщина в белом платочке, совсем в таком же, какие носят пожилые украинки. Седеющие пряди волос спускались на высокий лоб. Руки старушка прятала под одеяло, накинутое на сандал. На столе стоял поднос с пиалами, лепешками, кишмишом, орехами.
— Заходите, прошу милости, заходите, — сказала старушка неожиданно звонким молодым голосом, — будьте гостями. Простите, что женщина встречает вас, мужчин. Заходите, пожалуйста. Садитесь…
Она с откровенным любопытством рассматривала пришедших. Ее черные, проницательные глаза быстро перебегали с одного лица на другое, пока гости рассаживались по–турецки на одеяла, аккуратно разложенные вдоль стен. И вдруг она нахмурилась и очень сердито заметила:
— Гульайин, что тебе нужно, иди!
Легко прислонившись к косяку, в дверях стояла девушка. Лицо Гульайин не имело правильных черт, но поражало необыкновенной яркой красотой. Особенно — глаза, большие, ясные.
Девушка не пошевелилась. Старуха заговорила снова:
— Стыдись! Здесь посторонние. Знаешь ли ты, что за один взгляд мужчины на твое открытое лицо тебя раньше потащили бы на площадь, сорвали бы с тебя одежду, закопали бы по пояс в землю… Да, страшное время! И в тебя, в твои ясные глазки озверевшие люди бросали бы комья глины и острые камни. Затем люди разошлись бы, бормоча проклятья, а псы зубами стали бы рвать твое молодое тело…