Любила Россию, русское, русскую еду (вечные пирожки с улицы Николо), русское слово, русских людей, но вот этой тоски по родине, грызущей денно и нощно многих, не испытывала. (Как папа сказал: «Что ж, раз суждено жить во Франции…») Любила и Францию, и Швейцарию, и Германию — мы все с ней планировали отдых в Сен-Морице, куда ездила она с Петей много лет подряд, любимое место Ницше и Рильке. Любила всякие «сорта» — выходы, «ресепсьоны» — приемы, словом, настоящую парижскую жизнь. В ее «ажанда» — календаре — такие трогательные записи: «Будут сегодня: Шар, Ксенакис, Булез. Купить ягоды, творожок, сделать борщ с пирожками». Наиболее частым гостем был Анда Геза, которым «руководил» Петя, оставался ночевать, да еще и с женой, и с собакой! Приезжал Стравинский с Верой (которую всегда осуждала за туалеты), Мюнш, Шерхен, Прокофьев. «…В пятницу пойдем на „Консула“ Менотти. Известно, что плохо, и идти мне не хочется. Потом Мюнш, кажется, приходит к нам, надо тогда позвать Николь и Булеза — возня… Начинается какое-то скопление. Какие все пустяки — о чем это я?»
Марьяна «варилась» в самой гуще «культурного бульона» — музыки, поэзии, страстных (вся страсть шла от Пети) ночных разговоров о литературе, о будущем русского искусства, да и самой России. И хоть и не получила она систематического образования, мнение свое имела всегда, и именно эта ее черта (она даже во внешности ее проявлялась, в повороте головы) — независимость — и мешала ей, наверное, жить не страдая, но и так выручала внутренне! О ней как-то Ариадна сказала: «А Марьяна была колююючая!» Не хотела она со всеми соглашаться. И часто просто из озорства, из игры. Вот, например, описывает она вербную субботу (она ведь в церковь ходила регулярно и на ночь молилась, и иконка всегда висела в головах над ее постелью — скорее, это была койка, узкая, серым застеленная, — Серафим Саровский с медведем; теперь она у меня, — а сидел какой-то бесенок в ней и показывал рожки…):
«…Была в церкви. П. тоже. Потребность молиться, а не могу, то, что, казалось бы, должно служить проводником к Богу, мне становится преградой. Становишься не участником молитвы, а зрителем. Попы — уроды какие-то, начинаешь их разглядывать, поют очень плохо и с большой претензией, фальшивые сестры в косынках снуют и беспрестанно убирают свечи. Знаю, что все это неважно, а вот мешает. Просто искушение какое-то».
Страстной четверг.
«…Завтра коллекция демисезон. Сегодня репетиция, есть неплохие вещи, жалею одно мое платье, которое не сделали так, как я хотела. Стало почти жарко, чудесная зелень вокруг. Была в церкви, но опоздала, ушла до конца — не хорошо. Куличи и пасхи завтра буду делать. Звонил Булез. Вечером вчера читала Ремизова, и до сих пор не могу отвязаться от какой-то Unreimlichkeit, даром что карлик, а какой дюжий эротоман! И эту книгу он прислал нам к Пасхе!»
Страстная пятница.
«…Коллекция имела успех и прошла неплохо. Как всегда, как каждый день, но еще сильнее думаю о маме — как мы с ней делали куличи вместе…»
Пасха.
«…Шестой час утра. Только кончила убирать после ухода Гезов. Они ушли в 4. В церкви вчера были, но стояли отдельно, так как нахлынувшая толпа нас разделила. П. сказал, что теперь он будет каждую Пасху ждать меня во дворе около березы, а в церковь заходить больше не будет».
И о музыке судила бесстрашно: «Ужин у М. с Онеггерами и, конечно, Мюнш. Как он плохо дирижирует! И как он мил, несмотря на это. Звонил сейчас по телефону — просто так. Онеггер симпатичный, но, как я и думала, — симплификатор, поэтому мне его музыка неинтересна».
«…По радио передавали оперу Менотти. Какая дрянь, и дрянь не стихийная, а просто наибанальнейшая». «Геза чудно играл Бартока, хотя и не обошлось без срывов, мне не понравилось, как дирижировал Дезо…»
А ведь музыке не училась, просто слушала, впитывала, была «около». И при этом свое отстаивала до конца, не боялась (да и любила дразнить!) перечить: «Что вы все — Бродский, Бродский! Это же просто штукарь!» Пожалуй, только Чехов был «неприкасаемым», этот вечный русский идол.
«…Пошли сегодня смотреть „Дядю Ваню“ в Champs Elysees. Какой чудный текст! Что даже во французском переводе (неплохом), при игре очень посредственной нисколько не устарел и ни на секунду не детонирует. Я не знаю театра лучше. Это — все и ничего. Вернее — „ничего и все“ имеет в себе какую-то удивительную сценическую правду, да и правду вообще. Заключительная тирада Сони может показаться громоздкой, но по сути как это чудно…»
«…Как это чудно по сути: „Что же делать, надо жить! Мы, дядя Ваня, будем жить… будем трудиться для других и теперь, и в старости, а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и Бог сжалится над нами… мы отдохнем…“»
Да, под этой изящной, такой «чеховской» корочкой тонкий (но и прочный!) ледок, искрящийся огнями парижских улиц и театров, — всё бьется и болит, но не прорывается наружу — выдержка! — одинокость, непонятость, уязвимость. Жгут обиды — и вымышленные, и настоящие. Боль о семье, постоянные страдания о своих. И трудно достучаться до друга, и тень какого-то женского горя: «Что я делаю! Ничего, ничего не могу поправить! Как справиться с собой?»
Но — сумела. Но — справилась. И в этом ее победа, «непостыдная» кончина жизни. Ни тени озлобленности. «Петя? Не понимал? Ну что вы, он чудный был, горячий, добрый, ах, как бы вы с ним подружились!»
Опять гремят ложки и тарелки в столовой — накрывают к рождественскому ужину. Приносят и маленькие бутылочки вина по сто граммов. Ставят перед каждым прибором. Но Марьяна не хочет выходить из своего «изолятора». Кутается в лиловый халатик с давно отгрызенными пуговицами («Не модно!»), так женственно, по-молодому, поджимает коленки: «Душка, давайте здесь чай пить, не пойдем к этим зловещим старухам. И почему-то все французы, французы… Давайте смотреть альбом».
Города она не узнает, смотрит равнодушно — красивая площадь… Река до чего широкая… колонны… Амстердам? Фасады очень недурны. И вдруг: «А вот наши окна! Наша квартира! Было 14 окон, и все выходили на Неву. А когда папу вели в машину — открытый грузовик, а была осень! — я бежала вдоль этих окон, думала, что больше не увижу его. Он ведь был без пальто, без шляпы, так и стоял в открытом грузовике, и волосы развевались…»

Встреча на вокзале Гар дю Нор. И. Емельянова, Вадим, Борис и Андрей Козовые. Февраль 1985 г.
Первая поездка в Израиль. И. Малинкович, И. Емельянова, Б. Подольский. 1986 г.
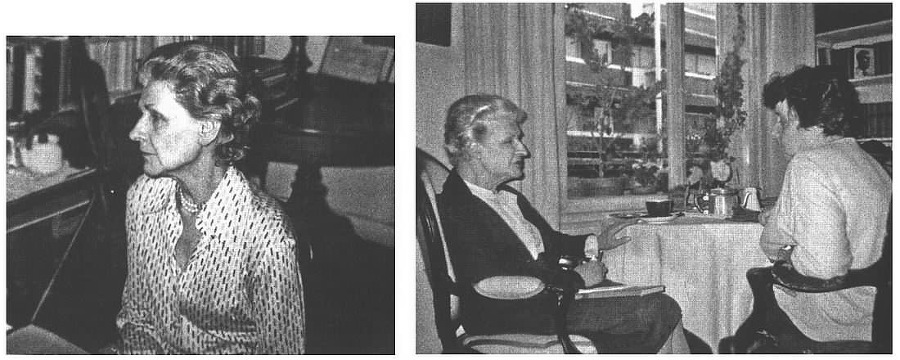
М. Сувчинская. Конец 1940-х гг.
М. Сувчинская и А. Саакянц. Париж. 1992 г.
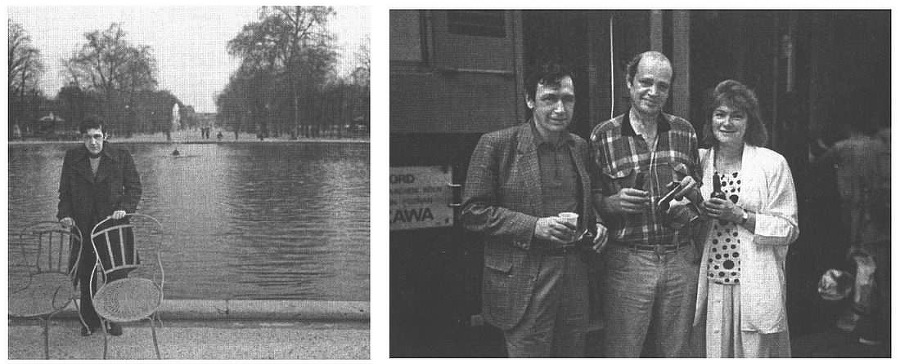
В. Козовой.
В. Козовой, Д. Виноградов, И. Емельянова. Париж, Гар дю Нор. 1990 г.
…Я расскажу, что вижу я, когда иду по Люксембургу… иду в начале октября, когда он… немного печален и еще более прекрасен, чем всегда…
…Же вэ вудир се ке же вуа…
Спотыкаясь, мы читаем этот красивый французский текст, стараясь попасть в ритм этого самого Люксембургского вальса, воображая себе невиданный по красоте сад и маленького Анатоля Тибо, будущего Анатоля Франса, прыгающего, как воробей, через лужи. Он идет в свой знаменитый коллеж и тащит тяжелейший ранец с учебниками. А потом напишет об этом времени «Книгу моего друга», легкую для «начального обучения французскому», которую мы читаем. Мы — трое студенточек на уроке французского. А за окном московская осень и облетевшие прутики Тверского бульвара.
…Это пора, когда… один за другим листья падают на белые плечи статуй…
…сюр ле бланш эполь де статю…
А вот и они, эти статуи, они встречают меня через много-много лет, как встречали когда-то воробьишку Тибо, они образуют изящный полукруг, это даже не вальс, а скорее менуэт. Они прямые и суровые, все на одно лицо, да и одеты одинаково, и расставлены в хронологическом беспорядке, и верно, у кого на макушке, у кого на плече прилег красно-желтый листок. Это все королевы Франции. Первая слева — Мария Стюарт, несмотря на свою полную невыразительность вдохновившая Бродского на венок сонетов.