1
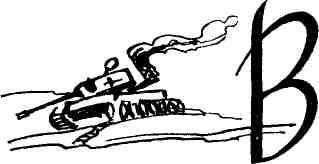
Восемнадцатого июня 1941 года я вернулся в Ленинград из Семидесятой. И едва вернулся, как мне позвонил Литвинов из «На страже Родины».
— Давайте поскорее материал.
— Есть, — сказал я. — Дайте только отоспаться.
Утром я вытащил из сумки записные книжки. Прикинул: материала на пять очерков, да еще останется для «СССР на стройке». Они просили что-нибудь вроде «Будни одного полка». В основном им нужны фотографии, а текста совсем мало. Я легко составил план работы, сделал закладки и пронумеровал их, в образцовом порядке разложил записные книжки и чистую бумагу, заправил перо, выкурил десяток «Казбека» и наконец понял, что не могу написать ни одной строчки.
Я не только не мог написать очерка для Литвинова, но не мог даже выжать несколько строчек под фотографии. А хороши они были! Как сейчас помню: сияющее улыбкой лицо командира орудия (расчет получил благодарность), переправа на понтонах, связисты на отдыхе с родной тальяночкой.
Все было как в жизни. Я сам видел и смеющиеся лица красноармейцев, и образцовую переправу, и связистов с тальяночкой. Да, все это я видел, а написать об этом не мог. И что было винить фотокорреспондента! Разве мог он схватить в объектив тревогу, которая в те дни камнем лежала на сердце.
Командировка моя была недальняя. Я был в Выборге в 123-й дивизии, а потом поехал к «своим», то есть в Семидесятую. К тому времени в Семидесятой меня уже считали своим. И не только потому, что я часто бывал там и со многими успел подружиться, но и потому, что по поручению Воениздата писал «Историю дивизии».
Под конец командировки я пришел проститься к заместителю командира дивизии по политчасти Галстяну. Он был не один. В его кабинете находился еще один военный, лектор из округа, лицо которого показалось мне знакомым, и не столько лицо, сколько его знаменитые очки-линзы. Как выяснилось, в недалеком прошлом он занимался литературными викторинами.
— Почти собрат, — сказал он, пожимая мне руку.
«Почти собрат» приехал с лекцией о международном положении: на днях было опубликовано «Сообщение ТАСС».
— Прошу, дорогой, займи, пожалуйста, гостя, я позвоню в полки, — сказал мне Галстян и вышел из кабинета.
Через пять минут он вернулся и сообщил, что, к великому сожалению, все заняты боевой учебой и в ближайшие дни лекция состояться не может.
— Можно и на привале, — сказал мой «собрат», — в обеденный перерыв…
— Нельзя, дорогой, — мягко сказал Галстян. — Согласно приказу наркома боевая учеба приближена к боевой обстановке.
Мне кажется, мой «собрат» что-то понял. Он снял свои знаменитые линзы и слепо взглянул на Галстяна:
— Я буду жаловаться.
Галстян развел руками и, вздыхая, стал прощаться. Когда мы остались одни, я спросил:
— Зачем вы это сделали?
— Я отвечаю за боевой дух части! — гневно крикнул Галстян. Лицо его покрылось красными пятнами.
Образ Сергея Сергеевича Зимина[3], моего героя, не совпадает с личностью Галстяна, но многое в образе навеяно этим незаурядным человеком. При том, что биографии Зимина и Галстяна совершенно разные, при том, что есть существенная разница и в возрасте, и в партийном стаже, да и в положении в армии, — при всем этом я, работая над образом Зимина, часто видел перед собой Галстяна. Высокое сознание своего долга перед Родиной, презрение к мелким, ничтожным мотивам, которыми нередко прикрывают ложь, — все это роднит, на мой взгляд, Зимина и с Галстяном, и со многими другими командирами Красной Армии, которых я знал до войны и во время войны.
Что касается моего лектора Широкова[4], то и он, конечно, другой, чем «почти собрат», чем тот лектор, которого я видел в кабинете Галстяна. Широков — человек образованный, мыслящий, понимающий свою неблаговидную роль и… мирящийся с этой ролью. Конфликт Зимина с таким человеком, мне кажется, помогает читателю выяснить оба характера.
Вечером я снова позвонил Литвинову и сказал, что болен.
— Даю вам три дня на разгул, — ответил мне умный Литвинов.
Через три дня было воскресенье 22 июня. Я кинулся в Песочную, где стояла Семидесятая. Галстян принял меня, как всегда, приветливо и приказал выдать обмундирование и оружие.
Мое положение в дивизии было довольно странным. Ни в каких штатах я не числился и, следовательно, «на довольствии не состоял». И «мобилизнуть» меня не удавалось, на этот счет врачи были непреклонны: у меня с юности была искалечена нога. И только благодаря Галстяну все устроилось, и я стал работать в дивизионной газете. Люди вокруг были знакомые, в любом полку и стол и дом. И что самое главное — откровенный разговор. Я был счастлив, что служу и что у меня есть свое место в армии. Я написал «счастлив» и остановился. Подходит ли это слово к началу войны? Но ведь всем известно, что гроза опасна для жизни, молния может попасть в тебя, но тяжелее всего человек переносит предгрозье.
Перед войной только очень немногие люди верили, что фашисты отказались от своих агрессивных планов против Советского Союза, большинство не сомневалось в развязке.
Первые две недели после начала войны дивизия находилась в резерве Северного фронта. (Напомню, что он стал называться Ленинградским значительно позже, в августе.) Мы стояли на Карельском перешейке и жили так же, как в мирное время. Распорядок дня, положенный для летних лагерей. Боевая учеба. И только инженерно-строительные работы — дивизия оборудовала положенные ей рубежи — напоминали, что идет война.
Холодная погода сменилась чудесным теплым летом, кипела сирень, спокойные озера днем и ночью отражали безоблачное небо.
За то время, что мы здесь стояли, появилось Каунасское направление, потом Вильнюсское, потом Двинское, Рижское, Смоленское… Немцы уже были на границах Ленинградской области, а мы все еще находились в резерве.
В то время Семидесятой командовал генерал Федюнин. Это был человек в высшей степени требовательный не только к своим подчиненным, но и к самому себе. Он любил военное дело, мне кажется, он был военным по призванию.
До него дивизией командовал Кирпонос, и Федюнин новое назначение считал величайшей удачей. Он полюбил дивизию, а лучше сказать, он в нее по-молодому влюбился и стал не только ее хозяином, но и первым в ней работником.
В моих книгах ни у кого из героев нет портретного сходства с теми людьми, с которыми я в то время встречался. Но когда я писал своего Евдокимова[5], я думал о Федюнине.
Помню одну нашу встречу в конце июня или, быть может, в самом начале июля, во всяком случае до выступления Сталина по радио.
Командир дивизии принял меня поздно вечером. Только что кончилось совещание, и я вошел в кабинет, наполненный табачным дымом. Федюнин открыл окно, подписал бумажку, с которой я к нему пришел, но не отпустил, а стал расспрашивать: вероятно, ему казалось, что я, писатель, о чем-то знаю. Но что я мог знать!
Он выглядел плохо, устал, мне говорили, что командир дивизии мало спит, прихватывает и ночь для работы.
— Вот вы говорите, много заседаем, это плохо, — сказал Федюнин, хотя я ничего не говорил. — Но много, очень много не отработано, кадры замечательные в Семидесятой, но есть скороспелки. Да, скороспелок еще много. Ну вот я, например. Академию ведь я не закончил. Училище плюс учеба на курсах усовершенствования комсостава. Маловато…
Многое из того, что я видел перед войной, теперь, когда война уже шла, я стал видеть по-другому. Здесь, на Карельском перешейке, одуревая от белых ночей, бессонницы и сводок Совинформбюро, я вспоминал свою недавнюю командировку в мехкорпус, находившийся сравнительно далеко от Ленинграда, за Псковом.
Я приехал в тот день, когда был получен приказ о переброске одной механизированной дивизии на запад. До этого одна танковая бригада из того же корпуса ушла на север. Командир корпуса был мрачен, зато молодой полковник, командовавший дивизией, сиял от радости: шутка ли, на запад, на границу с фашистским рейхом! Однако и он, этот молодой и счастливый человек, признавал, что неразумно посылать туда одну стрелковую дивизию без танков, когда именно там нужен мощный кулак.
Я сказал:
— Но ведь это, по-видимому, только на лагерный период…
Командир корпуса взглянул на меня как на идиота:
— Лагерный период! Если бы это лето прошло в лагере, то я готов был бы остаться один на один со своей тещей!.. Дело все в том…
Но тут в кабинет вошел подполковник Д., и командир корпуса стал что-то тянуть, что в общем-то разговоры о близкой войне — провокация.
Я уже успел заметить, что едва ли не все в корпусе, даже люди значительно старше подполковника Д. и по опыту и по званию, как-то тушевались при нем. Он был человек нездешний и приезжал сюда в качестве инспектора. У него была весьма внушительная фигура, да и манера, с которой он разглядывал своего собеседника, была тоже весьма внушительной.
Вечером я был в гостях у командира корпуса. Его жена, высокая, костистая, с узкими сухими губами, поставила на стол литр водки, штук десять отбивных и ушла к соседям.
— Мелочная опека, невежество, — сказал командир корпуса, — почему не послушать и меня в такой грозный час? Так ждем вас после лагерей, так сказать, на зимних квартирах. Может, и впрямь воссоединимся? — спросил он меня, с какой-то безумной надеждой заглядывая мне в лицо…
В Ленинград я возвращался из корпуса вместе с подполковником Д. Он сидел рядом с шофером, а я сзади, почти упираясь в почтенный затылок. Я тогда воспользовался долгой дорогой и атаковал подполковника вопросами, которые, естественно, возникли у меня после того, что я видел.
Д. отвечал мне, как всегда, отрывисто, но с присущей ему ясностью и твердостью: все правильно, стрелковая дивизия нужна на западе, танки нужны на севере, приказ есть приказ, командир корпуса держится за свое хозяйство — это понятно, он, подполковник Д., выполняет свою работу, это тоже понятно, такова жизнь военного человека, вам, гражданским, этого не понять.