1
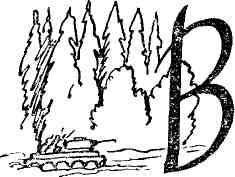
В декабре 1939 года я получил свое первое назначение в военную газету. Редакция ее находилась недалеко от Ленинграда. Шла война с Финляндией, мне хотелось как можно скорее попасть на фронт, и я нетерпеливо слушал советы редактора…
Но вот наконец на мне полушубок, шапка и валенки, да еще какие валенки! Какой-то необычайной, просто феноменальной катки. «Век будете носить — не сносите!»
Мы выехали рано утром, в темноте, и приехали на место в густые сумерки; кажется, это был самый короткий день. Но меня поразила не темнота и даже не безлюдье, а тишина. Такая немая тишина бывает зимой в лесу. Это и был лес, немного порубленный, порубленный впопыхах, чтобы хоть как-то обосноваться.
Меня провели в штабную землянку, а вернее сказать, я втолкнулся куда-то, где вповалку, прямо на земле, утепленной еловыми ветками, лежали люди. Я споткнулся о чьи-то ноги, чуть не упал, второй раз споткнулся, третий и наконец все-таки упал. Я понимал, как это должно выглядеть смешно, и ждал самого страшного для новичка: всеобщего смеха и неизбежного позора.
— Очень плохие землянки, — услышал я чей-то резкий голос. — Саперов еще нет, а наши красноармейцы к сему труду не приучены.
Резкий голос звучал насмешливо, но, слава богу, не по моему адресу. Штабная землянка была действительно дурно построена. Отдыхать невозможно — холодно, даже нар не сделано.
О войне ни полслова. Зато все весело набросились на мои охотничьи сосиски «прямо от Елисеева». Термосов ни у кого не было, но фляжек сколько угодно. Только налили, зашуршала брезентовая дверь.
— Здесь писатель? Товарищ писатель, к командиру отряда!
— За ваше здоровье! — Где-то в глубине землянки приятно забулькала проклятая.
Командир отряда? Я был так поглощен новым своим положением и всем тем, что предстоит пережить здесь на фронте, что ничему старался не удивляться. Но командир отряда! Все-таки странно…
В землянку командира отряда я тоже не вошел, а втолкнулся и чуть не упал: скользкие ступеньки так и потянули меня. К тому же очки мои запотели, и я ничего не мог разглядеть. На этот раз мое появление было встречено громким смехом.
Когда я прозрел, то увидел командира отряда. Сначала увидел его ромбы. (Он еще не был аттестован по-новому, его величали комбригом и продолжали так величать и потом, когда он получил звание полковника.) Первое, что я заметил, была рука на черной перевязи и красное мясистое лицо с узкими яркими огоньками под густыми ветками бровей.
— Это вам не Союз советских писателей, — дружелюбно сказал командир отряда. Кроме него, в землянке находились адъютант, вестовой, который меня привел, и молодая девушка, тоненькая и очень ладная. Ее можно было бы назвать и хорошенькой, если бы не злинка в глазах, уродовавшая все лицо. Адъютант и вестовой захохотали, а она нетерпеливо отвернулась. — Ну, ладно, ладно, — сказал командир отряда, дотронувшись до ее руки. — Ну, будет, будет.
Я продолжал стоять, ожидая, когда мне предложат сесть. Приглашения так и не последовало. Девушка как была, без полушубка, выбежала из землянки. Командир отряда нахмурился, адъютант и вестовой тоже сразу нахмурились (это у них занятно получалось).
— Так, так, — обратился ко мне командир отряда. — Значит, впервые на фронте?
— Впервые.
— А с чем его едят, этот самый фронт?
Адъютант и вестовой снова захохотали, но командир отряда свирепо на них взглянул:
— Одеваться!
Был подан казакин. Я не оговорился: синего, очень тонкого сукна казакин, отороченный черным каракулем на воротнике, манжетах и вдоль борта. Неказенный покрой. Без знаков различия. Командира отряда должны узнавать и без ромбов. Галифе. Высокие сапоги, узкие, черные, блестящие, как атласные. Деревянная кобура с серебряной нашлепкой. Так и хочется закончить этот абзац: «Подвели коня чистопородного…»
Коня не было. Вчетвером мы вышли из землянки и двинулись по тропинке — адъютант командира отряда, командир отряда, я и вестовой командира отряда. Было ослепительно светло. В небе стояла полная, добела раскаленная зверским морозом луна. Благодаря луне я увидал весь наш лагерь — какие-то сараюшки, землянки, машины, бочки, штабеля досок и две большие груды совершенно синих мешков с мукой. Лагерь, или, лучше сказать, КП отряда находился в небольшой лощине, зажатой двумя рядами невысоких холмов. Наша тропинка вилась по склону холма, и вскоре мы были наверху.
Наверху был лес. На его макушке, под наведенным на цель лунным прожектором, стояли четыре обгоревших танка. Под ними почти отвесно лежала пропасть. Оттуда, из пропасти, подымался черный, синий, серебряный, пороховой лунный дым.
Слева от нас, в створе мачтовых сосен, блестели зеленые льды Финского залива. Мы взяли вправо. Тропинка шла почти над самой пропастью, и мне стало страшно: я боялся оступиться и тяготился молчанием, не зная, можно ли о чем-нибудь спрашивать.
Так, в полном молчании, мы прошли метров восемьсот. Вдруг командир отряда остановился. Чуть вздрогнув, остановилась вся наша цепочка.
— Здесь, — командир отряда рукой описал дугу, по которой мы шли, — здесь мы неприступны. Если только противник попробует начать, он сразу же ляжет под нашим пулеметным огнем. От края, — снова широкий жест в сторону залива, который теперь не был виден и только угадывался по черным пятнышкам танков, — и до края, — и он рукой указал на туго перетянутую морозом линию горизонта.
В это время я услышал какое-то странное повизгивание, как будто под ногами пробежал маленький лесной зверек. И только пробежал, как за ним — другой, третий… Я взглянул под ноги — и тут и там крепкий снег взрыхлен. Вжжик, вжжик, вжжик. Да ведь это…
— Противник проявляет активность, — с великолепным презрением сказал командир отряда. Адъютант и вестовой снова захохотали.
Через час мы вернулись на КП. Я мечтал о своей холодной землянке, о еловой подстилке, об охотничьих сосисках и о живительном бульканье, но командир отряда сказал приветливо:
— Прошу, прошу, первое боевое крещение надо отметить. Хвалю. Я думал, не удержитесь, поклончик сделаете.
И вот мы сидим за столом под большой керосиновой лампой. Передо мной общая тетрадь, школьная чернильница и перо. У печурки, внимательно глядя на огонь, тоненькая девушка с вечной злинкой в глазах.
Командир отряда диктует:
— Я родился в бывшей Области Войска Донского. Мой отец…
Я не возражал против такого начала. В конце концов, дело рассказчика, с чего начинать. Да и вообще не мешает хоть коротенько знать, как складывалась эта жизнь. Но прошел час, заложена вторая печурка, жарко до одури, а мы все не можем пробиться сквозь детство и отрочество. Я уже несколько раз пытался обратить внимание рассказчика на события последнего месяца, но он только небрежно ронял:
— Дойдем и до этого… — и продолжал свое.
Первая мировая война. В седло! Но тут тоненькая девушка так отчаянно зевнула, что командир отряда нахмурился, потом улыбнулся, потом снова нахмурился и наконец отпустил меня отдыхать.
Мой сосед по землянке, старший политрук Абатуров, спросил меня, когда я улегся:
— Ну, как провели время?
Я коротко рассказал о своем вечере, упустив только «первое боевое крещение».
— Так, так, значит, до принятия эскадрона еще не дошли, — спокойно сказал старший политрук. — Да вы снимите полушубок и укройтесь им, будет лучше.
Я снял полушубок, устроился поудобнее, но заснуть не мог: мешали впечатления дня, а еще больше мешало полное непонимание всего, что происходит вокруг меня. Хотелось все узнать, и как-то совестно было обнаружить свое невежество. Ох, зря я не посидел лишний час в редакции.
— Товарищ старший политрук, — спросил я наконец. — А что там за танки наверху?
— Они погибли, напоровшись на управляемые фугасы. Закономерно, если принять во внимание, что местность предварительно не была разведана, хотя было достаточно признаков, что мы находимся в непосредственной близости с мощной оборонительной линией противника. Андрей, подтверди, — обратился он к молодому командиру, который был военным инженером.
— Да, конечно, перед нами доты — весьма мощная система, ничем не уступающая линии Зигфрида и линии Мажино. Да здесь все и строилось-то в основном немцами, хотя и англичане помогали.
Я слушал Абатурова, слушал инженера, а думал о тех танках, которые только что видел…
Много важного узнал я в эту ночь. Мои новые знакомые — люди умные и образованные, а главное, лишенные какой-либо предвзятости, — откровенно говорили о том, что́ сейчас, по их мнению, главное: надо отказаться от хвастливой трескотни, надо прививать воюющим людям военные знания. Многое из того, что годилось в войне гражданской, устарело.
Узнал я и о том, что уже есть решение высокого начальства: никаких «отрядов», будет сформирована нормальная дивизия, завтра ожидается артиллерийский полк, ну и остальные положенные подразделения придут до Нового года.
— Презрение к смерти не есть презрение к снарядам, — сказал Абатуров, колко засмеявшись, и я подумал о том, как хорошо, что он ничего не знает о моем «боевом крещении».
Так началась моя жизнь на войне. Первые впечатления всегда много значат, а на войне — в особенности. Мало сказать, что эти впечатления были пестрыми, они были двойственными.
Все дни я проводил в стрелковой роте, или в артиллерийском дивизионе, или у саперов. О ком я писал? Старший сержант Замчалов — артмастер, замечательный знаток материальной части орудий, командир батальона Викторов, красноармеец Аничков и его командир — начальник разведки дивизиона лейтенант Козыренко. Один разведчик после долгого наблюдения установил амбразуру противника, прикрытую белой материей, другой открыл у противника искусственный лес: «лес в лесу», укрывавший дзот. Чем умнее командир, тем более он дорожит такими «мелочами». Да и мелочи ли это, в самом деле? Не буду сейчас говорить о качестве того материала, который я ежедневно давал в газету, сейчас я понимаю, что писал очень плохо, но я горжусь тем, что хоть в самой малой степени содействовал пропаганде военных знаний, показывая такого человека на войне, который уже понял, что́ значит быть грамотным военным. Так я жил с утра и до вечера. А вечером за мной приходил вестовой: