Так они встретились.
— Я много слушала Москву тогда, в оккупации. Вместе с Сашей. У меня дома была спрятана радиостанция, — сказала Рози. — Москва казалась такой далекой-далекой… И вот теперь я здесь. Жаль, очень мало времени. Считанные часы. Я ведь не одна — в туристской группе.
— А как вы меня нашли? — спросила Наталья Ивановна.
— После гибели Саши у меня осталась его записная книжка. В ней был ваш адрес. И потом он рассказывал мне о вас.
Разговор шел, как и предложила Рози, по-французски, но иногда она вставляла и русские слова.
— Вы немного знаете русский?
— Да, да, это Саша меня учил.
Чай давно остыл. К нему едва притронулись.
Рози взглянула на часы, заторопилась, поднялась со стула.
Наталья Ивановна подошла к ней, и они обнялись.
— Поклонитесь от меня Сашиной могиле.
Когда Наталья Ивановна проводила гостью, снова села у стола, задумалась. Виделось ей печальное лицо француженки, слышался ее голос.
И в который раз вспомнила в этот день старая учительница своих учеников.
На белой скатерти стола лежал красный цветок гвоздики и рядом с ним фотография памятника: «Я всегда с тобой».
БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

В Пятой московской артиллерийской спецшколе шли весенние экзамены.
Преподаватель вызвал к столу ученика и предложил «тянуть» билет.
— Какая тема вам досталась?
— Бородинское сражение.
Ученик сел, чтобы подготовиться, сделал несколько записей на листке бумаги, а затем вышел отвечать.
Отвечал он нечетко, сбивался, и тогда преподаватель сказал:
— Я знаю вас как хорошего слушателя, курсанта. Но к этому экзамену вы не подготовились. Ставлю двойку. Экзамен будете пересдавать.
Пересдавать пришлось дважды. Первый раз — через несколько дней, второй раз — через несколько лет.
…Шла зима 1942 года. Мела снегами, душила морозами. Лютовала над полями подмосковных сражений.
Наступая, части Красной Армии подошли к Бородину. И здесь, в районе Бородинского поля, разгорелись тяжелые бои.
В этих боях участвовала батарея молодого лейтенанта, недавно окончившего артиллерийское училище. Наблюдательный пункт батареи находился в расположении пехоты, у самого переднего края.
Однажды вечером, когда атаки задохнулись и огонь чуть поутих, лейтенанта вызвали в штаб. Едва он вышел из окопа и сделал первые шаги, как рядом с КП стрелковой роты увидел лежавшего на земле раненого командира. Тронул его несколько раз рукой — раненый в ответ только слабо простонал. Тогда лейтенант взвалил его себе на спину и понес в тыл. Увязал в глубоком снегу. Много раз ложился, пережидал немецкие артналеты.
Потом лейтенант снова поднимался и шел, шел. Шел, шатаясь от дикой усталости и от тяжелой ноши. Три километра нес он раненого на себе, пока наконец добрался до леса, где раскинул палатки медсанбат.
Лейтенант вошел в одну из палаток, бережно опустил раненого и при свете «летучей мыши» увидел его лицо. В батальонном комиссаре, которого он принес с передовой, сразу узнал своего бывшего преподавателя, некогда поставившего ему двойку на экзаменах. А раненый открыл глаза и… тоже узнал своего ученика.
Лейтенант сходил в штаб и попросил, чтобы ему разрешили провести ночь в медсанбате.
До самого рассвета сидел он у постели раненого, менял компрессы, прислушивался к прерывистому дыханию больного. Сознание, которое пришло к учителю в первые минуты в медсанбате, снова покинуло его. Не вернулось оно и утром, когда лейтенант уходил в бой, в Бородинский бой.
Надевая шапку, лейтенант сказал медсестре:
— Вы уж посмотрите… Очень прошу… И поскорее в госпиталь…
— Это ваш родственник? — спросила сестра.
— Да.
Потом лейтенант достал из полевой сумки небольшую книгу и попросил медсестру передать ее больному, когда ему станет лучше.
— А если до отправления в госпиталь этого сделать будет нельзя, то положите книгу в личные вещи батальонного комиссара.
Сколько времени прошло — день, два или три, — но вот книга в руках у человека, лежащего на медсанбатовской койке. Это стихи Лермонтова. «Избранное». На первой странице карандашом написано: «Самое любимое — любимому учителю. С.» В книге — бумажная закладка. Она лежит на той странице, где напечатано «Бородино».
Но прежде чем батальонный комиссар перечитал «Бородино», он обратил внимание на слова, написанные тем же карандашом на закладке: «Помните, как вы закатили мне «двойку» за незнание материала 1812 года? Что бы вы мне сейчас поставили на Бородинском поле? С.»
Кто же они — герои этого рассказа? Учитель — И. Арцис, бывший директор Пятой московской артиллерийской спецшколы, преподававший в ней же историю. Он прошел всю войну, с первых до последних дней ее. Награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды. Ныне он — доцент, читает в одном из московских вузов курс научного коммунизма. А ученик — А. Сибиряков — офицер, отличившийся во многих сражениях Отечественной войны.
Ветераны не раз встречались, и, конечно, вспоминали Бородинский бой.
ИДЕЯ
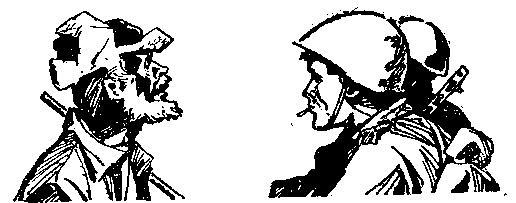
Наступая, мы заняли одну из деревенек в Воронежской области. Не помню, как она называлась, но это сейчас значения не имеет.
В сводках Советского информбюро о подобных деревеньках писали: освобождено столько-то населенных пунктов. Такая была принята формулировка, не очень, на мой взгляд, правильная, потому что пункты в большинстве, к великому горю, оказывались не населенными. Нет у домов хозяев: воюют на фронтах, в партизанах, угнаны в Германию, расстреляны оккупантами. Да и домов нет — пепелища одни.
В деревеньке, о которой я рассказываю, оказалось всего несколько стариков и старух. Жили они в землянках.
С одним из этих стариков и завязался у нас разговор.
Услышав русскую речь, он выполз из землянки, снял шапку:
— Здравствуйте, сынки.
— Как живем, папаша?
— Что вам сказать? Раньше говорили: живем — хлеб жуем. А теперь нету его — хлеба-то. Щи из крапивы жуем. Научился под старость лет варить.
— А старуха-то есть?
— Нет ее, старухи. Убило ее. Бомбой. Дочь была — забрали дочь в Германию. Сын был в армии — сказали, без вести пропавший. Вот и остался один я. Про меня и немцы забыли — не тронули, сама смерть забыла. Но вспомнит, чую, вспомнит. Не дожить мне до того, когда колхоз наш оперится снова.
— Хороший был колхоз?
— О! Богатый! Я в сторожах состоял. Было что сторожить, было! И амбары не пустовали, и скотины — нескольким пастухам не управиться. Вот если бы председатель наш Павел Кузьмич вернулся, начали бы все сызнова. Хоть старики, а поработали бы. Знаете, какой он у нас председатель был? Огонь! И все время у него — идеи.
— Идеи? — переспросили мы. — А что такое идеи?
Старик замялся, теребя редкую седую бородку.
— Как сказать вам? Я человек-то неученый. Не мое это слово. Павел Кузьмич любил его очень. Бывало, соберет нас, колхозников, и скажет: «Есть у меня, односельчане, идея — школу новую строить…» или так: «Имею, говорит, идею породистого быка купить». Клуб перед самой войной заканчивали — только не успели. Вон он, клуб-то, стоит — одни стены черные. Вчера только сгорел. Как они уходили, немцы, так солому вокруг клуба набросали, бензином или чем еще полили и подожгли. Они тут все жгли, что оставалось…
— Как вы думаете, папаша, какая же идея у немцев?