Высшая мера

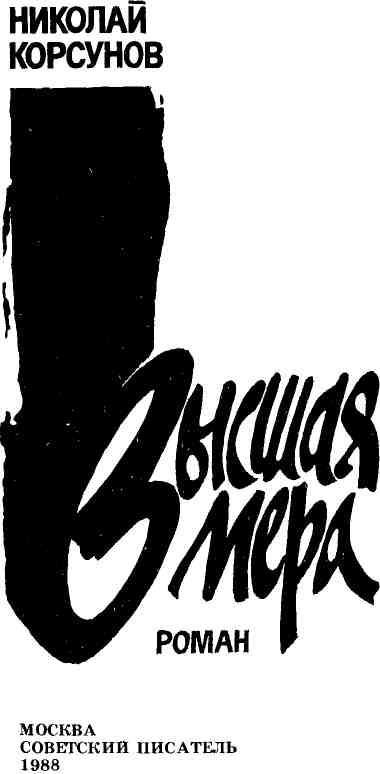
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Стоит он на юру, как на войсковой поверке, и к боку его кривой казацкой саблей прижимается старица Урала. Сам-то Урал годов сто назад выправил русло, отошел далее к востоку, а на память о себе оставил вот эту кривулину-старицу с высоченным яром — шапка падает, ежели от воды глянуть. И на том поднебесном лбище стоит форпост Излучный, так его прежде называли, а по-нынешнему — поселок.
В Излучном — две улицы, неширокие, из окна в окно можно видеть, что сосед делает. Главная — Столбовая. С нее выбирается в степь, в кочевой простор расколоченная колесами дорога, устами излученцев — «градская», потому что ползет она долгие версты между сусличьих глинистых бугорков, между полыней и ковылей к главному городу области — Уральску. Пыльной обочиной ее, след в след, уходят из поселка телеграфные столбы, засиженные на макушках беркутами и коршуньем.
А Речная улица льнет к зеленой уральской пойме, к берегу старицы. Есть еще три проулка: Косой, Пьяный и Севрюжий. Косой проулок назван так в память жившего здесь есаула, который окривел во время завоевания Хивы. А по Пьяному проулку, говорят, в троицын день спускались казаки в луга водку пить, «бышеньку»[1] выплясывать да любушек-забавниц из круга умыкать… Третий проулок и поныне чаще Севрюжьим взвозом кличется. В стародавнее время, когда Урал еще у огородных плетней, у самых бань колыхался, по этому взвозу плавенщики да баграчеи-ловцы красную рыбу возами поднимали. В ту пору, сказывают старики, осетра да севрюги в Урале было видимо-невидимо, налипало в суводные сети-ярыги как репьев в овечий хвост. Да только небыль, наверно, вяжут ведуны белобородые! Их послушать, в старину все лучше, все слаще было. Но тогда какого же пса они то к Стеньке Разину прислонялись, то Емельяна Пугачева облыжно императором возглашали, то на Арал-море из-под царской руки уходили?! От сладкой, что ли, жизни?
Не поймешь этих стариков!
А может быть, и поймешь, если вспомнишь, что селилась на крутых берегах Яика Горыныча[2] вольница — народ дерзкий, отпетый. От него и семя бунтарское, неспокойное шло: ему и это не так, и другое не этак, всяк наособицу выворачивается, потому как казаки — поголовно все атаманы. Недаром же и посейчас ветхие пращуры на непокорливых внуков ворчат доброхотно: «У, Р-разина порррода!»
Вот вы только послушайте Стахея Силыча Каршина, который в Пьяном проулке живет по-над самой старицей. Он вам наговорит черт-те что! В германскую Каршин до вахмистра выслужился, два «Георгия» храбростью заработал, позже белоказачий атаман Толстов сделал его сотником, а уж потом, у красных, Стахей Силыч шашкой да удалью отмолил грехи перед Советами и даже эскадроном командовал на польском фронте. Но в Излучном и по сей день кое-кто прозывает его беляком. И это не столько за прошлое, сколько за теперешние Стахея Силыча разговоры… Уж больно охоч он былое-неворотное ворошить, так и кажется, что о том ему ежечасно сытая отрыжка напоминает.
А излученцы крепко знают, что в прежние-то времена эта отрыжка и не снилась Стахею, ибо голодранец он был первейший на весь форпост. Такая уж натура у казака. И за это его недолюбливают. И особенно не может переносить Дуся, Душаичка Осокина, бабенка горячая, злая и веселая безудержно.
Сроду эта ее нелюбовь не печалила душу Стахея Силыча, а ноне всколыхнула, отенила. У Осокиных на неделе свадьба, младший брат Евдокии женится на фельдшерице. И вряд ли пригласят на эту свадьбу Стахея Каршина — больно уж поцапался третьего дня с Душаей. Он так полагает, но целый день не уходит из дому — надеется.
Слонялся он по надворью, на весь белый свет обиженный, а шея сама выкручивала голову в сторону мазанки Осокиных. За плетнем лишь глинобитная крыша виднелась со стожком сена на сарае. Наконец вошел в свой высокий, на подклете, дом, подмел без нужды горницу и сел к окну. Отсюда хорошо видны излучина старицы, а за ней — пойменный, бордово-желтый лес. Там сейчас по сизым терновникам и ежевичникам черные косачи с молодыми тетерками жируют, там гомон грачиных предотлетных стай, там шум листопада… А он, как девка-перестарок, у окна протухает, ждет, позовут не позовут Осокины?
Стахей Силыч досадливо крякнул. Но тут его заинтересовал парнишка, что брел по кромке противоположного берега. Как назло, это Костя Осокин оказался, сын Душаички, Павловны, как ее все чаще и чаще величают. В Костиных вытянутых руках — длинное удилище с привязанной к нему блесной. На прожорливых нахальных щук охотится.
Знатная должна быть у Осокиных свадьба… Позовут или не позовут? Еще Костька этот глаза мозолит… Эх, кабы позвали! Любил Стахей Силыч, чтобы из ноздрей — дым, из-под копыт — звезды!..
Прошла почтальонка — к Каршиным не завернула. И Стахей Силыч с готовностью переключил свою досаду на сыновей: редко пишут, стервецы! Это потому, что ничего в них казачьего не осталось. Один — паровозный машинист, другой — адвокат, а младший на учителя обучается в Уральске. Вон ведь в какую линию ударились. На корню высыхает казачество!
И начал бы Стахей Силыч припоминать былое, заветное, да узрил, как вывернулась из-за угла Душаичка Осокина. Ясное дело, за сыном! Понадобился! Ходко, быстро мчит по Пьяному проулку проворная бабенка. Как бы мимо не промчала любезная Евдокия Павловна!
Каршин молодо вымахнул из избы, приткнулся к столбцу калитки. И великое равнодушие легло на его лицо. Будто ну от скуки непереносимой доит он белый пушистый ус и гуляет прищуром поверх мазанок, поверх опустевших скворечен. Но видит старый, как летит казачка. Она еще не поравнялась с ним, а он уж:
— Далеко ли бежишь, клюковка?
Остановилась, по-хорошему взглянула:
— А я думала, ты на бакенах, Стахей Силыч, на работе…
— У бога дней много — наработаюсь! Далеко ли бежишь, спрашиваю?
А она лукавила что-то, спросила, как живется ему, Стахей Силычу, в одиночестве, что пишет из города Степанида Ларионовна, как ее здоровье?
— Чего ей сделается! Все такая же белуга! — Каршин начинал не на шутку нервничать, теряя всякую надежду. И свое раздражение вымещал на ни в чем не повинной жене: — Она иль выработалась! Вечно, матри, богородицей сидит, извека — сложа ручки за моим горбом!..
Павловна, похоже, догадывалась об истинной причине его паршивого настроения, но томила, выматывала душеньку, как потроха на кулак. А потом неожиданно в избу предложила войти. У Каршина грешный туманец колыхнул башку седую. Бежал впереди Павловны и свои мысли выкладывал ей: «Он, матри, ничего казачина! Высокий, прямой, как свечка… Вполне строевой для любви! Мой-то что, мой всегда в степи, возле тракторов. А тут такой сокол-беркут!..»
В сенцах весело боднул сапогом тыкву, выкатившуюся из кучи в углу, с молодой проворностью откинул перед Душаей скрипучую дверь и так же проворно громыхнул стулом: садись, мол, клюковка разлюбезная, моментом самовар организую, а не то — бутылочку…
Но Павловна — как не слышала! Стояла и, словно привередливый покупатель, неспешно и придирчиво оглядывала просторную избу. Выжидательно замерший Каршин следил за ее серыми глазами и боялся слюну проглотить, чтобы ненароком мыслей не выдать своих, даже пытался думать о чем-то другом, о бакенах например, которые он сегодня не проверял.
— Изба мне ваша нужна, Стахей Силыч…
— Та-ак… — Он уже окончательно понял, что не ради его красивых усов пришла она, и остывал, будто босыми ногами в таз с холодной водой влез.
— У невесты дядя должен подъехать, а он у нее красный командир. Вот и решили… У нас мазанка, сам знаешь, не больно хоромистая…