— Далась ему эта шкурка! — ворчал Санька. — Не уснёт ведь, живодёр, дежурит…
Утром, едва развиднелось, проводник отправился на баржу. Сидя у костра, я смотрел ему в спину и думал, что зря мы всё-таки не выпустили нерпёнка. Подумаешь, собственность!
Проводник влез на борт, с минуту стоял, осматриваясь, потом начал с грохотом передвигать оставшиеся в трюме порожние бочки. Голова проводника то показывалась над бортом, то снова исчезала, и только гулкий звон отодвигаемых бочек стоял над баржей. Затем из трюма вылетел какой-то ящик с ветошью, потом брезент, и следом, описав стремительную дугу, шлёпнулся в глину мотористов топор.
— Во разошёлся! — озорно взглянул на меня Санька и направился к барже.
За ним поднялись ребята. Я тоже пошёл посмотреть, что там происходит.
Красный от натуги, бормоча про себя что-то неразборчивое, наш проводник с ломом в руках ползал по трюму, заглядывал во все закоулки. Заметив нас, поднялся, зло спросил:
— Кому тут надо было хозяйничать?
Мы так и прыснули.
— Кто выпустил нерпу? — заорал проводник.
— Ну, ты не очень кричи! — буркнул Санька.
Все замолчали, предвидя надвигающуюся ссору. И в эту минуту, где-то далеко, в самой утробе баржи послышалось приглушённое скрежетание. Проводник какое-то мгновение недоверчиво прислушивался, потом, не выпуская лома, бросился к рубке и, лёжа на животе, полез вдоль борта куда-то под неё, к перегородке, которой трюм был отгорожен от машинного отделения.
«Вот дуралей, — подумал я о нерпёнке, — ну что бы тебе ещё потерпеть…»
Все стояли на борту, возле поручней, хмуро ждали, что будет. Из закутка торчали только резиновые сапоги проводника. Сапоги дёргались, елозили по настилу, а проводник раздражённо кричал что-то, не зная, как подступиться к зверьку.

Я отвернулся от ветра, чтобы прикурить. В эту минуту послышался смех. Хохотали весело, заливисто, и только Санька пытался остановиться, не мог и лишь выговаривал сквозь хохот:
— Ай да зверюга! Ай да у-умница!..
Проводник стоял взъерошенный и оглядывал всех колючими глазами.
— Что произошло? — спросил я, подходя.
— А ничего, — ответил он. — Измазалась нерпа в мазуте, как чёрт, а они ржут…
Нерпёнок был неузнаваем. Его красивая шкурка вся была в бурых маслянистых пятнах. И только глаза — усталые и затравленные — смотрели знакомо ещё, но уже как-то безразлично.
Санька наконец перестал смеяться, озорно подмигнул нам и предложил проводнику:
— Хочешь, мыла дам?
— Зачем? — не понял проводник.
— Помоешь ему шкуру, а то его матка не узнает…
Все опять засмеялись. Проводник обвёл нас недобрым взглядом, не выдержал — взял нерпёнка за ласты, раскачал и сердито швырнул в воду, которую прилив опять уже подогнал к самому борту. Нерпёнок скрылся в волнах.
Вынырнул он метрах в ста от берега, чтобы набрать воздуху, осмотреться. Его красивая усатая голова дважды повернулась над жёлто-серой волной, как будто зверёк хотел ещё раз поглядеть на всех нас, затем скрылась.
— Ну, вот и лады, — заметил Санька, протягивая мне спички. — Прикуривайте.
И тут только я увидел, что рука, в которой он держал спички, что эта рука запачкана в мазуте. Я сделал вид, что ничего не заметил.
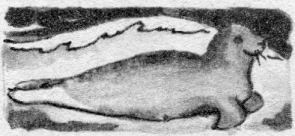
ЗАЯЧИЙ АРХИПЕЛАГ
Неделя сплошного дождя — это было слишком много даже для терпеливой Пенжины. Река побурела, стала заливать берега, смывая оставшиеся от паводка коряги, выворачивая деревья. Они плыли по стремнине ещё зелёные, с неестественно задранными в небо скрюченными корнями. Временами плавник по-овечьи пугливо сбивался где-нибудь в заводях в тесные стайки, и тогда Пенжина несла мимо наших палаток не коряги уже, а целые острова. На них белели нарядные чайки, степенно прогуливались толстые ленивые вороны. А однажды к нашим палаткам поднесло совсем уж неожиданного туриста. Его коряга остановилась вдруг на рейде, видно, села на мель, развернулась на течении, и пассажир уставился на нас, высоко подняв длинные уши. Это был заяц.
— Вот так подарочек! — засмеялся повар, берясь за вёсла.
Увидев приближающуюся лодку, заяц забеспокоился. Он привстал на задних ногах, уши его зашевелились, будто он стриг ими воздух. Потом забегал по коряге. Повар неловко перебирал по ней руками, подтягивая лодку, пока, наконец, не схватил зайца за уши. Лодка направилась к берегу.
Я не заметил, что произошло раньше: успел ли повар вылезти из лодки, чтобы подтащить её, или прежде почувствовал близость берега заяц. Во всяком случае, ещё до того как лодка ткнулась в берег, пассажир совершил вдруг такой акробатический прыжок, что повар выронил вёсла от неожиданности. Он так и застыл там с глупой, растерянной улыбкой, пока мы хохотали над ним.

Впрочем, бежать зайцу было некуда: мы сами уже двое суток были островитянами. Косу затопило, и теперь там, за палатками, куда он шмыгнул, в кустарнике покачивались охапки намокшего хвороста, кружились рыжие хлопья пены. Сконфуженный повар поискал его с мелкокалиберкой, но заяц был не так прост, чтобы, спрыгнув со сковороды, тут же попасть на мушку.
Коса наша, ещё недавно большая и ровная — мы специально нашли такую, чтобы удобнее сесть вертолёту, — становилась с каждым днём меньше и меньше. Сначала она, как я уже говорил, превратилась в остров, а потом и остров этот распался на множество едва выступающих над водой каменистых или песчаных бугорков. Мы стали кочевать с бугорка на бугорок. Каждое утро складывали палатки и спальники в резиновые лодки и где вброд, где на вёслах отправлялись искать новое убежище. О зайце подумали: утонул, где там спастись бедняге. Бугорки были низкие, маленькие, и какой из них надёжнее, знала одна Пенжина. Но у неё ведь не спросишь.
Однажды мы проснулись и не узнали своего острова. Когда мы ставили палатки, это был ещё вполне приличный остров, на нём даже кустик зеленел. Но за ночь вода поднялась, и на том месте, где с вечера домовито горел наш костёр, утром голубела лагуна. Посреди лагуны нелепо торчали колья с чумазым чайником и кастрюлей на перекладине, возле них, длинные, как туземные пироги, кружились головешки.
На вертолёт мы уже не надеялись, всё равно ведь ему сесть было бы теперь негде, но и косу оставлять не хотелось: не век же будут дожди.
Так мы кочевали от острова к острову, пока не отыскали тот, который уж наверняка был самый высокий: он остался один, последний — груда песка посреди реденьких, дрожащих на быстрине кустиков.
Мы занялись устройством лагеря. Кто перетаскивал снаряжение, кто ставил палатки, а повар пошел за дровами. Остров наш оказался не таким уж заброшенным — у самой воды и выше повсюду на песке были следы: торопливые, в ёлочку, по самой кромке разбегались дорожки куликов; выше — солидные, впришлёпку, треугольники — их оставили гуси.
На ночь установили дежурства. Было ещё темно, когда я вышел на пост присматривать за прибывающей водой.
Лодки наши, спокойно плававшие вечером в уютной гавани, прибило к берегу. Я проверил, не надо ли подкачать их, но они были тугие, как мячи. Возле костра лежала мелкокалиберка. Это повар положил её здесь для дежурного, чтобы была под руками, если покажется какая живность.
Я подбросил дров в огонь, согрел чаю, уселся с кружкой у костра. Было тихо. Только потрескивали в огне дрова, пищали сонные комары да где-то на заломе глухо шумела река. Её почти не было видно. Она лишь угадывалась в редеющих сумерках — не река даже, а что-то большое и безостановочное хлюпало там, в тумане, встряхивало затопленный ивняк и ольховник, тащило пену.
Я сидел и наблюдал, как начинается утро. Далеко вверх по реке, там, где, расплываясь во мраке, темнел мыс, и потом выше и, наверное, ещё дальше уже начала желтеть, просветляться над мысом узенькая полоска. Я сходил за плавником для своего огня, а когда вернулся к костру, полоска там, над мысом, совсем прояснилась. Будто приподнял кто-то штору, и заструился свет. Уже тлели кромки ночных облаков, совсем не мутных и бесформенных, как полчаса назад, а чётко обведённых чем-то горячим. Пока я рассматривал их, помаленьку начала наливаться красным, прорисовываться и кромка мыса — зубчатые купы тёмного тальника, а потом над мысом налилась малиновым заря. И жёлтая моя полоска стала уже не жёлтой, а зеленоватой, и облака над ней, как непогасшие угли на ветру, замерцали ало, рассыпались жаркие и дробные.