Я понимал, что этим дело не кончится. Вероятно, они рассчитывают, что здесь я кому-нибудь проболтаюсь. Что за человек мой земляк? Не служит ли он в полиции? Может быть, это агент гестапо? Спрашивал же он, за что я попал в тюрьму?
— В наше время вообще не знаешь, есть ли у тебя право быть свободным, — ответил я безучастно.
— Что верно, то верно. Это вы в самую точку попали. Но я знаю, за что сижу.
— Это утешительно.
Видимо, сидевшему поблизости заключенному наскучила португальская речь, и, передразнивая нас, он залаял по-собачьи: «А-у, а-у, а-у!» Другие засмеялись; кто-то принялся подвывать.
Тогда мой земляк схватился за воображаемый автомат и прошил всех двумя очередями — глаза его так и горели гневом. А потом вернулся ко мне, и взгляд его стал тоскливым. Временами мне чудилось, будто лицо это — живое зеркало, и я в нем отражаюсь. Должно быть, я тоже такой, и вид у меня затравленный, страдальческий, кожа бледная, и жилы на шее резко обозначились — точь-в-точь два конца веревки на горле.
— У этого типа просто пунктик какой-то — задирать иностранцев, — пояснил он. — Есть французы, которые считают, что и тюрьмы-то для них должны быть отдельные. Вы с ним еще столкнетесь. Ладно, попадешься мне на воле, узнаешь, что почем! Все равно от меня не уйдешь.
Он взял меня за руку и подвел к решетчатому окну.
— Остерегайтесь этого субчика. Его сюда посадили за политическими следить.
Я тут же решил, что он хочет завоевать мое доверие.
— Вам бы занятие какое себе приискать, время убить. Люди здесь с ума сходят от ожидания. Я вот приговора жду. А вы?
— А я жду, когда выяснится ошибка и меня отпустят, — ответил я вяло, бесцветным голосом.
Он улыбнулся.
— В первые дни все твердят, что не виноваты. Один я взял да и рассказал все как было. Я убил человека, и мне его нисколечко не жалко.
— Преступление на почве ревности, — добавил я и прикусил язык.
— Вот так-то, — промолвил он, помолчав. — А вы и не надейтесь, что вас оправдают. Не такое нынче время. Теперь каждый виновен. Частенько они приходят — забрать кого-нибудь на расстрел. Проклятая это штука, знаете?
— Боишься, и тебя прихватят?
— Нет, не в том дело. Они политических расстреливают, а я не политический. Нет, это мне Марокко напоминает. Я там воевал.
Другой заключенный — он сидел в углу, особняком, — затянул испанскую песню. Все смолкли, прислушиваясь.
— Это Гарсиа, испанский партизан. Всем нравится, когда он поет. Вот уж три месяца, как его к расстрелу приговорили. Представляете, каково это — ждать три месяца, зная наверняка, что тебя ничто не спасет?
— В нынешние времена ни в чем нельзя быть уверенным, — возразил я.
— Политическим хорошо, — продолжал он, понизив голос. — Они во что-то верят. Потому Гарсиа и поет…
— А может, просто время хочет скоротать.
— Дни здесь тянутся как проклятые. Я уж говорил вам: нужно подыскать какое-нибудь занятие.
Надо было отвлечься от раздумий, и я стал расспрашивать своего земляка, припоминая подробности из его жизни. Он охотно отвечал, и я не мог понять, преследует ли он какой-нибудь тайный умысел. И все же его взволнованное лицо, его привычка хвататься за воображаемый автомат и воспоминания о нашем безмятежном городке потянули меня к нему. И я предложил:
— Давай попробуем сократить время ожидания? Ты говоришь, у тебя были разные прозвища…
— Да, несколько; целых семь. Только при чем тут время?
— Расскажи про них.
Он нахмурился.
— Если, конечно, ты не против. Напомни мне…
— Я буду рассказывать, а вы писать? Ну что ж… Вы напишете, а потом мне прочтете.
— Эдак мы долго провозимся.
— Времени-то у нас вагон. Мне еще ждать бог весть сколько…
Он замолк на минуту. Я понял, что он обдумывает мое предложение. Но вот он обернулся ко мне, и лицо его смягчилось улыбкой.
— Как скажете, так и начнем. Первое прозвище было у меня красивое. Вы его лучше, чем я, знаете, — протянул он печально, что, признаюсь, несколько меня озадачило. — Правда ведь, красиво — Младенец Иисус?
Гарсиа, испанский партизан, пел все громче!
Младенец Иисус
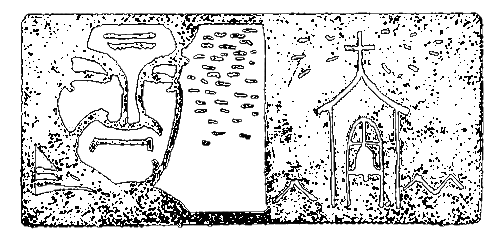
Глава первая
Отец — балагур и весельчак
Мануэл Кукурузный Початок вихрем ворвался в таверну, словно за ним гнались по пятам, и крикнул еще с порога:
— Эй, Тереза! Подай-ка мне бутылочку винца!.. Да по-быстрому!.. — И лишь тогда обернулся к обшарпанному столу, за которым молча сидели двое мужчин: — Добрый вечер!
Те лениво кивнули в ответ. Мануэл узнал посетителей и усмехнулся в кустистую рыжую бороду.
— Терезинья!
Звонкий переливчатый голос Терезы отозвался из-за пестрой занавески:
— Что, уже родила?
— Куда там! Живот будто каменный. Гору, что ли, родить задумала.
Лихорадочно блестящими глазами он окинул двух грузчиков, которые держались обособленно друг от друга, точно между ними воздвигли крепостную стену.
— Хозяйка моя рожает. Впервой ей это… Вот и орет благим матом, хоть из дома прочь беги. Никак уж не ожидал, что ей так худо придется, разрази меня гром!
Ему хотелось посидеть спокойно: пусть жизнь идет своим чередом.
— Кобылам-то жеребым я не раз помогал, а вот женщине не приходилось. — От полноты чувств глаза у него сверкали. — Все равно здорово, что она родит… А то на кой пес она мне сдалась, черт побери?! Зачем человеку жена, как не детей рожать? С изъяном она у меня, чего там говорить. Не во мне же дело, у нас в семье детишек плодили, что твоих поросят, прости господи… Один только дед мой, Аугусто, напек их тринадцать штук. Да, тринадцать! Это тех, что крестили. — И, ухмыляясь, добавил шепотом: — Сколько у него, у мошенника, баб перебывало! У нас в доме все таковские. Страсть как до юбок охочи. Мне б женщин да лошадей, — оживился он, — вот оно и счастье. Они только и красят жизнь!
— И вино, — ввернул один из грузчиков.
— Это уж само собой… Как воздух для человека иль вода для рыбы.
Мануэл Кукурузный Початок досадливо поморщился и обернулся в сторону кухни.
— Тереза! Бутылку трехлетнего! Мигом! Или ты хочешь, чтоб я помер от жажды?
Пошел одиннадцатый час ночи, а он все чесал язык, разглагольствовал о том о сем, сыпя слова без разбору, и намертво забыл, что обещал Марии сбегать за повитухой Розой из Барроки. Так и коротал он в таверне ночь отводя душу — новая кружка, новая прибаутка, — и не преминул рассказать о стычке с Дамским Угодником и о том, как поплатился за это местом. То было самое лютое его горе.
— Мануэл! Ну-ка попробуй! — позвала Тереза. — Смотри, какой я хворост поджарила.
— Да сегодня же рождество, — пробурчал грузчик, мрачно уставясь на дверь.
— А я-то и позабыл вовсе, — спохватился другой. — Потопали, Зе?
Его товарищ огрызнулся:
— Вишь ты какой! Выкурить меня хочешь? Катись-ка отсюда сам да напиши, как придешь!
— Тьфу, пропасть! Что за муха тебя укусила, приятель? Дьявол тебя возьми!
Они сидели в таверне с самого обеда, затаив злобу друг на друга, и тянули вино; каждый надеялся, что соперник уснет или ему надоест выжидать момент, чтобы остаться с Терезой наедине, и уж тогда он непременно уговорит ее выйти за него замуж.
Мануэл примостился у бочонка с вином и протянул руку за кружкой. «Эх, не торчали бы здесь эти два чучела, я бы опрокинул под шумок парочку кружек». Он заколебался на миг, но искушение было слишком велико. Он присел на корточки, чтобы его не заметили, отвернул кран и нацедил с полкружки… Затем наполнил кружку до краев и, выпрямившись во весь рост, — теперь пусть все видят! — залпом осушил ее, крякнув от удовольствия.
— Ваше здоровье, сеньор Мануэл! Вам налили винца? Терезинья завсегда тебя так угостит, закачаешься!