Она плакала молча, беззвучно. В комнате царила тьма, и Реджинальд, наверное, даже не узнал бы, что она плачет, если бы его руки не увлажнились от ее слез. Казалось, это плачет мрак вокруг Нелли. Реджинальд сжимал ее в объятиях; он не дал ей времени сбросить пальто, и она была счастлива, что ему не видно ее красное кричащее платье. Она чувствовала, что этот яркий наряд, который она не успела сменить на более скромный, может ее выдать. Красный цвет — он ведь совсем из другой жизни, так же, как ярко-зеленый или пурпурный. Если бы Реджинальд увидел это красное платье, он увидел бы и двойственность жизни Нелли, разгадал ее истинную суть. Красное платье помнило Гастона — Гастона одетого, Гастона полураздетого, Гастона стоящего и лежащего. Нелли чудилось, что, сняв с нее пальто, Реджинальд сорвал бы спасительную оболочку, словно кору с дерева. Провидению ведь вовсе не обязательно быть к Реджинальду более милостивым, чем к Гастону. Этот миг любовного восторга рядом с Нелли Реджинальду предстояло купить ценою наивного непонимания ситуации, граничившего со слепотой. Наверное, именно поэтому он сам крепко сжимал ее в объятиях, не давая пальто распахнуться, обнажить платье. Обычно он спешил снять с Нелли верхнюю одежду, освободить ее от лжи номер один — внешнего скромного облачения, затем от лжи номер два — неприметного платьица, и неизменно подходил, ухитряясь так и не коснуться правды, к той наивысшей форме лжи, какую являло собой ее тело — единственная неправда, в которой Нелли была полностью уверена, ибо тело — не одежда, не вещь, что способна коварно предать вас. Реджинальд оглядывал, оглаживал платья Нелли, с которых она срезала магазинные ярлыки, белье с оторванными ею метками прачки, все вещи, которые она носила на себе, каждый раз перед свиданиями с Реджинальдом тщательно выверяя их анонимность, словно женщина, решившая покончить с собой в безвестности.
Но сегодня, когда ему стоило лишь чуточку приоткрыть пальто Нелли, чтобы увидеть самую ее сердцевину, он в святом мужском неведении усердно застегивал на ней пуговицы, поднимал ворот, как будто она плакала от лютой стужи. Нелли была близка к обмороку; очутись она в ярком свете, и она высказала бы всю правду, у нее не хватило бы сил солгать: платье, казалось ей, обличило бы обман, все поведало бы ему без утайки. И Нелли даже в обуревающем ее смятении горько восхищалась лицемерием и цинизмом судьбы, которая выхватывает из рук уставшего человека знамя лжи и сама несет его дальше. Она же в этот миг была только правдой, одной только правдой, одной только Нелли; и тело ее и душа смертельно утомились от тяжкой роли, три месяца подряд разыгрываемой для Реджинальда, и им не терпелось бросить эту двойную, уже непосильную игру, пусть даже это кончится катастрофой.
Но нет, бдительная судьба беспощадно погружала свою жертву, на минуту ставшую правдивой, обратно в трясину лжи; бросала ее туда именно руками Реджинальда, да так успешно, что мало-помалу Нелли пришла в себя, то есть вернулась к привычной двойственности, поняла, что наступает ночь, что ей осталось подождать всего несколько минут в объятиях Реджинальда, а там она вновь сможет возродить иллюзорную реальность, которой питалась их любовь. Она заставила Реджинальда сесть и сама села рядом, не разжимая рук. Он по-прежнему обнимал ее. В лице Нелли он обнимал всю правду, всю любовь на свете, оробевшую от счастья, спокойствия, уверенности. Он обнимал человеческое существо с четкими признаками женского пола, которое, укрывшись в объятиях любовника, словно в глубокой укромной норе, тихонько скользило от правды ко лжи, чтобы раствориться в ней, и которое, увидев любовника вдвойне ослепленным — ночным мраком и любовью, — в одну секунду сбросило с себя покровы и осталось нагим. Одно-два мгновения — любой женщине их вполне достаточно, чтобы изменить правде. И еще за одну секунду Нелли успела скомкать красное платье и засунуть его подальше под белье. Мало ли что может случиться…
— Любимая моя, светик мой! — сказал он.
Глава шестая
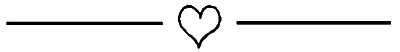
Иногда в этой неспособности Реджинальда заподозрить истину Нелли виделось особого рода благородство, которое бесконечно покоряло ее, освящая любовную роль, ежедневно, по два-три часа, исполняемую перед ним, и вознаграждая за всю мерзость жизни. Перед каждым свиданием она возносила молитвы — неизвестно кому. И тогда каждая новая ложь, добавленная ею к прежним, казалась средством еще дальше уйти от реальной действительности и оборачивалась очередной истиной в их иллюзорном мире.
Бывали случаи, когда, не в силах найти правдивые слова — пищу для восхитительных минут свидания, — Нелли должна была изобретать младшую сестру, умершую еще ребенком, или любимую зверюшку, или ночной побег из дома в юные годы. А у нее на самом деле были только братья, никогда не водилось кошек, и она до ужаса боялась выходить ночью за порог; однако, повинуясь тому же вдохновению, что заставляло ее все больше и больше уподобляться иной Нелли, которую любил Реджинальд, из небытия послушно возникали и любимая сестра, затмевавшая красотою ее самое, и ручная лань, и ночной уход из дома, с одним чемоданом в руке.
Да-да, именно тот чемодан ее и подвел. Он раскрылся по дороге, в лесной чаще, и по утерянным вещам преследователи отыскали ее… Реджинальд с восхищением внимал ей и верил абсолютно всему. Нелли инстинктивно чувствовала, что ложь легче всего обнаружить в процессе зарождения; для полного успеха ей следует расцвести пышным цветом, прочно утвердиться. Временами, при своих вдохновенных импровизациях, в самом апогее лжи, Нелли ощущала странное внутреннее удовлетворение; она и сама не понимала, что оно рождается в тот миг, когда ее ложь достигает высоты некоей правды, а именно, правды поэтической. Но иногда слепая доверчивость Реджинальда раздражала Нелли, и она вдруг ловила себя на легкой жалости к нему — жалости, смешанной с презрением. Как это столь проницательный психолог, для которого не составили загадки ни Вениселос, ни Сталин, неспособен уразуметь или хотя бы даже заподозрить, что он обнимает не какую-то сверхособенную француженку австрийского происхождения, оставшуюся чистой и непорочной в браке, а самую обыкновенную дамочку, отягощенную самой обыкновенной связью с другим мужчиной и родившуюся в самой обыкновенной буржуазной семье; эта недогадливость частенько мешала Нелли восхищаться своим любовником, побуждая сделать из него послушную игрушку.
Случались минуты, когда ложь должна была не только приукрасить Нелли для их замечательной любви, но и опустить Реджинальда до нее самой. О, вовсе не для того, чтобы меньше любить его! Но для того, чтобы избавиться от витавшей над нею, где-то совсем близко, угрозы, которая очень не нравилась Нелли. Эта угроза исходила от всего высокого, чистого, незапятнанного, и Нелли лгала, пытаясь таким образом отомстить за себя. Как ни говори, а ее ложь пачкала Реджинальда. Тот факт, что он живет в атмосфере двусмысленности, что в словах любимой им женщины нет ни грана правды, отнюдь не возвышал и не очищал его. Так легко принимать ложь и ни разу даже не подумать проверить ее, — это значило самому приобщиться ко лжи, скомпрометировать себя ею. Красота, воспитанность, прочие добродетели ценны лишь в том случае, когда помогают человечеству подняться еще на одну ступень по пути к совершенству. Но неприятно было другое: ложь для Реджинальда отличалась от лжи для Гастона, как небо от земли. Нелли казалось, что Гастону она обречена лгать вечно. И ей никогда не обрести счастья с ним, ибо между ними неизменно будет вставать некто третий, которого ей придется скрывать от Гастона. Ну а Реджинальду предназначалась особая ложь — ложь, из которой следовало извлечь пользу. Другого такого Реджинальда она никогда больше не найдет. Ни один мужчина в мире не потребует от нее подобного возвышения над самою собой, не будет почитать ее совершенством, чудом непорочности. А Нелли явственно чувствовала, что другого средства привязать к себе Реджинальда у нее нет.